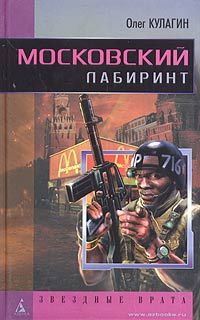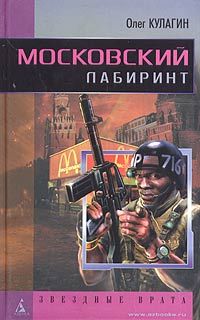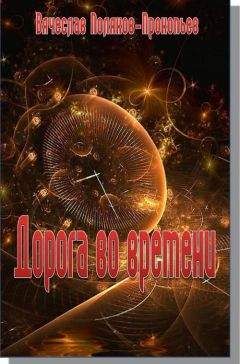Меня бережно подняли и куда-то понесли. Видеть лиц я ещё не могла— перед глазами по-прежнему плавали темные круги, но по голосам знала, что это Михалыч и кто-то ещё. Спустились вниз. Меня усадили в кресло и стали аккуратно привязывать. Кажется, липкой лентой примотали руки к подлокотникам, щиколотки — к подножке кресла. Не слишком туго, но вполне достаточно, чтобы исключить любые неожиданности с моей стороны.
Начало возвращаться зрение. Я увидела рядом Михалыча с инъектором. Дернулась — руки и ноги снова слушались, но многослойная лента удержала меня в кресле.
— Расслабься, Таня, — сказал Старик, — иначе будет немного больно…
— Гадина! — На смену леденящему оцепенению пришла злость.
Он укоризненно поморщился и ваткой, смоченной в спирте, протер мою правую руку выше локтя. При использовании инъектора этого и не требовалось, но, видимо, Михалыч слишком мной дорожил. Потом он вколол мне чего-то прозрачного.
— Извини, Таня, Тебе надо успокоиться. Иначе возможны осложнения. Скоро мы поедем в одно место, и опытные люди тебе помогут.
— Мразь!
— Зря ты… Я ведь рисковал. Ради того, чтобы ни один волос ни упал с твоей головы…
Отвернулась. Не могла на него смотреть.
— …Я понимаю, что тебе плохо, Таня. Этот выродок пытался подчинить твой разум. И ему было всё равно, что с тобой случится. Лишь бы провернуть дело…
— А тебе?.. Тебе не все равно? — Я нашла силы заглянуть в его глаза. Такие знакомые и чужие.
— Нет. Ты ведь знаешь.
Господи, он же не врет, не играет… Он действительно говорит правду.
— Тогда отпусти меня, Михалыч.
Он покачал головой, и я криво усмехнулась:
— Понятно…
— Перестань, — вздохнул Старик. — Разве ты сама не чувствуешь, что нуждаешься в помощи? Ты очень устала… Устала бороться с тем, что внутри тебя…
Какой бред он несет. Глупый, бессмысленный бред… Но пускай говорит, пускай… Тянуть время — единственное, что мне остаётся.
Быстрым взглядом я окинула комнату. Какая-то подсобка в подвале «Глубины». Железяки непонятного назначения, ящики, стеллажи с инструментом. Если освободить хотя бы одну руку, можно дотянуться вон до той никелированной трубы.
— Почему ты работаешь на них? — Я изо всех сил пыталась быть спокойной.
— На кого это «на них»?
— Тебе виднее. На американцев, на Рыжего, на Гусакова… Не знаю, кому ты еще успел продаться.
— Думаешь, у них всех хватило бы денег? — прищурился он.
Из моей груди вырвался хриплый смешок:
— Значит, ты бескорыстный предатель.
Трубой я легко бы достала до его виска… Проклятая лента… И вроде бы совсем не туго, но рука будто приросла к подлокотнику…
— Слова… Пустые слова, — покачал головой Михалыч. — В каждом человеке скрыты огромные возможности. Но большинство не использует даже десятой их части за целую жизнь. Люди сами воздвигают перед собой искусственные преграды. Из собственных комплексов, из предрассудков, из фальшивых фраз… Лишь немногим избранным выпадает шанс. Возможность освободиться, переступить через все преграды… Понимаешь, девочка, — только подлинная свобода даёт настоящую силу.
— Да уж… А предательство — вообще окрыляет!
— Обычный человек — очень уязвим. Из-за своих комплексов. Поэтому он так легко подчиняется чужой воле, — взгляд Старика стал жестким, — используя твой страх, Алан почти превратил тебя в игрушку…
— А ты не терпишь, когда кто-то, кроме тебя, дёргает за ниточки?
Он отвел глаза:
— Да, я виноват… Но теперь время пришло. Если бы ты знала, Таня, как я мечтал об этом.
— О чем?
— О свободе для тебя.
У меня вырвался истерический смех.
Но в голосе Михалыча нет и тени иронии:
— Пришлось ждать целых два года… Сотни раз ты могла погибнуть. И все-таки я знал, всегда знал, ещё там, в Курске, что однажды этот день наступит.
Что за чепуху он несет?
Взгляд Старика осветился теплотой:
— Твоя боль помогла тебе выжить, Таня. Но она не давала тебе жить. Теперь всё кончится. Страх и боль уйдут. Навсегда. Ты почувствуешь СИЛУ. Вся никчемная и трусливая человеческая болтовня не стоит одного такого мгновения.
Мне стало не по себе от его взгляда:
— Неужели ты сам в это веришь?
Он кивнул:
— Трудно объяснить. Проще — почувствовать. Надо самому пройти через это …
Успокаивающе коснулся моей руки, и меня будто ледяной волной окатило.
— Михалыч… Ты уже прошел?
— Конечно.
— И давно?
— К сожалению, очень поздно. Чуть менее трёх лет назад…
Ясно. Два с лишним года, пока ты находил людей, пока выстраивал из них, как из кирпичиков, организацию, ты уже был свободным. Без предрассудков и веры в «фальшивую болтовню». Даже там, в Курске… Одно непонятно, зачем ты меня выхаживал, ночами не спал… Такие хлопоты. Куда проще отыскать другой кирпичик. Откуда эта привязанность к строительному материалу?
Или для тебя было слишком поздно? И уже нельзя было вытравить до конца все ненужное, человеческое…
А может, им так удобнее? Оставлять кое-что лишнее. Самую малость… Чтобы убедительнее звучали твои неброские, но ёмкие фразы о Родине, о нашей борьбе. Чтобы десятки людей были готовы идти за тобой хоть в самое пекло…
Я смотрела на Старика и чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Михалыч, Михалыч, что же с тобой сделали?
Конечно, это было глупо, никакого другого Карпенко я и не знала. Это была слабость… Обычная человеческая слабость…
Много ли слабостей они мне оставят?
Буду ли я так же тебя любить или так же ненавидеть, Михалыч?
Он гладил меня по руке:
— Сейчас препарат подействует и станет легче. Думаю, осложнений удастся избежать.
По-своему он действительно обо мне заботился. Он был как хороший врач у постели трудного пациента.
— Скажи, это больно? — мой голос прозвучал намного тише. Наверное, именно так должна влиять дрянь, которую он мне вколол.
— Совсем не больно, Таня, — качнул головой Старик.
— Вроде операции на мозге?
— Нет, конечно, нет. Все намного проще…
Он говорил что-то умиротворяющее, но слушала я уже в пол-уха. Минуту назад я обнаружила, что бритвенно острый кусочек пластика чуть отслоился от настоящего ногтя на правой руке. Кровь охранника — она доползла до моих пальцев, когда я лежала на полу в вестибюле. И этого теплого прикосновения оказалось достаточно.
Уже целую минуту я резала слои липкой ленты.
— …Исправим то, что успел натворить Алан. Остальное уже не так сложно…