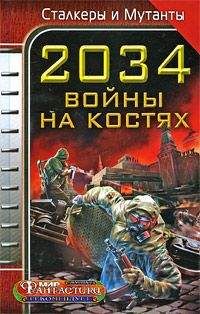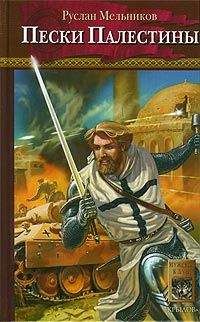Утром я сказала старой Женевьеве:
– Carajo, с меня хватит. Не могу на все это больше смотреть. До конца месяца оттяну и уйду, что я здесь забыла, в России. В Барселоне сейчас цветы, коррида и молодые мучачос, а я здесь гляжу, как одни несчастные убивают других.
Подобралась Женевьева, с койки встала и глянула на меня, как она одна умеет. Так, что дрожь по коже от того, что в ее выцветших от старости глазах плещется.
– Забудь, – говорит, – все, что сейчас сказала, и я тогда тоже забуду. Ты здесь не цветы собираешь и не с мучачос на свидания бегаешь. Ты божье дело делаешь, поняла? И не несчастных здесь убивают, а божье воинство борется с напастью, что дьявол на человечество наслал. И будет бороться, пока всю нечисть не искоренит подчистую. Ты гордиться должна, что тебе такая честь выпала, а ты вместо этого…
– Поняла я все, – говорю, – извините, сорвалось. Вчера опять соотечественника убили, мальчик он еще был.
– Мир праху, – Женевьева говорит, – а у самой морщины уже разглаживаются, отходить старая начала. Она, не будь на религиозной почве подвинутая, золотая бы была тетка. За своих кому хочешь горло перегрызет, за любую из нас, а нас в медицинском взводе восемь молодух, да у каждой мозги от жизни такой набекрень.
– Ты, девочка, крепись, – Женевьева продолжает, – каждому из нас своя ноша уготована господом. Но может так статься, что недолго осталось нам ее тянуть.
Сказала и замолчала. Ну и я молчу, захочет – сама скажет, а нет – из нее и пыткой слова не вытянешь. Вздохнула Женевьева старчески, снова пучок морщинок на лбу собрала, да и говорит:
– Ты вот что, девочка, особо не болтай, но говорят, что очень скоро с нечистью вовсе покончат. Я вчера с отцом Кларком встречалась: он полагает, что, может быть, даже на следующей неделе.
– Как покончат? – охнула я. – В каком смысле?
– Все, Санчита, – Женевьева говорит, – иди. И готовься, сегодня большую партию медикаментов в госпиталь завезут. Ну, бинты там, перевязочный материал, корпию. Нам за несколько дней надо все это оприходовать и по местам разложить, работы много будет. А до вечера отдыхай пока. Иди, девочка.
Вышла я. Вот какое дело, значит. Похоже на то, что мальчиков погонят на убой, как в позапрошлом году было. Тогда операция провалилась, с треском, много начальства полетело, даже главврач госпиталя, хотя он-то совсем ни при чем. А сколько солдат погибло, и не сосчитать. Хорошо только – заразу никто не подхватил, хотя какое там «хорошо». Приказ был: раненых, у которых реакция на вирус Бугрова – Циммера положительная, в госпиталь не класть, их в специальный карантин помещали, сразу за колючкой тогда для этого бараки сколотили. Живым оттуда никто не вышел, и слухи ходили, что их там…
Не додумала я: если о таком думать, то и жить не надо. В общем, только собралась к себе в дом пойти, стараниями Женевьевы под размещение санитарного взвода у начальства выхлопотанный, как слышу: окликают меня. И акцент такой, что ни с чем не перепутаешь, из всего карантина так английский язык коверкать только один человек может. Сержант-доброволец Иван Скачков, русский по кличке Большой Иван, здоровила с русой челкой на лоб и наглыми голубыми глазами. Бабник, выпивоха и свой в доску парень, который, ко всему, ко мне неровно дышит. Шагает от опушки прямо ко мне, видно, сюда лесом шел.
– Сеньорита, – говорит, – солнце мое и свет очей, два вопроса к тебе имеются.
Знаем мы эти два вопроса, проходили. Первый – не пойти ли в лес, чтобы немедленно трахнуться, а второй, после отказа на первый, – нет ли чего-нибудь на пропой русской души. У них в казармах с этим строго, а у нас, как положено, медицинский спирт.
– Нет, – говорю, – сеньор Иван, по первому пункту. А по второму сегодня тоже нет.
Нисколько он не смутился, разулыбался во всю свою синеглазую русскую ряшку и говорит:
– Зря, сеньорита, зря, особенно по первому пункту.
Сама знаю, что зря. Мужика у меня уже святая дева знает, сколько не было. С тех пор, как Альберто убили, а это уже почти год назад произошло. И уж если с кем пойти, так с этим русским, он мне, в общем-то, давно нравится. Что-то в нем такое есть, что от остальных кобелей отличает, которые вокруг медперсонала вьются. Хотя кобель он, конечно, изрядный, одна морда чего стоит. Но дело не в морде, а вот в чем – пока не пойму. «А, – думаю, – вот загадаю сейчас, и посмотрим, как оно выйдет».
– Вот что, сеньор, – говорю, – а что вы делаете в следующее воскресенье?
Посерьезнел он вдруг, подумал немного и отвечает:
– В следующее воскресенье, Санчита, я не знаю, что делаю, потому что…
И только он намерился сказать, что не знает, будет ли в следующее воскресенье жив, как я шаг вперед сделала и ладонью ему рот прикрыла. Он осекся аж и даже покраснеть умудрился, очень мило причем.
– Доживи, Ваня, – сказала я и посмотрела ему прямо в глаза. – Ты только доживи, все у нас тогда будет.
Повернулась и пошла в дом.
Я проснулся среди ночи и по привычке сразу принялся пересчитывать детей. И двоих не досчитался. Остатки сна моментально слетели с меня, я вскочил на ноги. Так, Машенька на часах, вот Лена, рядом с ней Диночка. Костя, Андрей, рыжий Толик и Ринат. Вити и Светы среди спящих не оказалось. У дальней стены в самодельных козлах одиноко стоял винтарь, еще один у Маши на посту, остальных двух не было. Я бросился к лазу в Наклонную Штольню, нырнул в него и через пять секунд вывалился в Смрадный Туннель, прямо перед сидящей на корточках у стены Машей.
– Где? – коротко спросил я. – Где они?
Дети прекрасно видят в темноте, но не я. Мое зрение начало ухудшаться несколько лет назад, сейчас я уже наполовину слепой, только не говорю никому. Но даже со скверным зрением в кромешной темноте я увидел, как покраснела Маша.
– Они ушли, Палыч, – сказала девочка. – Я не стала удерживать и тебя будить не стала. Они вернутся. Я молилась, чтобы они вернулись скорее.
Я тяжело вздохнул и присел рядом с Машей у стены. Она, единственная из всех, верит в бога. Она была из набожной семьи, а потом ее учил я, атеист с рождения, не знающий ничего, кроме самых азов. Мне было шестнадцать тогда, девять лет назад, когда настал Здец, и город над нами рухнул. А детям было по четыре, лишь некоторым по пять. Те, кто старше, не выжили, и те, кто младше, не выжили тоже.
Та дрянь, которую выпустили из пробирки, называлась вирусом Бугрова – Циммера. Нас в школе несколько лет им пугали: мол, самое опасное биологическое оружие. Два сумасшедших его в лабораториях создали. А потом объявили, что вирус этот уничтожен, как потенциальная угроза для человечества. И забыли. До тех пор, пока не произошла диверсия в Брюсселе, и весь мир разом взбесился. Все кричали только про Брюссель, демонстрации в защиту и против, до драк доходило, и начались беспорядки. А через неделю, как обухом – волевое решение ООН.