Князев едва успевал парировать удары, направленные в голову и корпус. Гомон зрителей стих, и в напряженной тишине майору отлично было слышно сопение бойцов, резкие выдохи в момент ударов и характерный звук блоков. Оба хорошо знали дело, и ярость президента разбивалась о хладнокровие Князева. Оставалось только догадываться, на сколько их хватит и кто первым начнет делать ошибки.
* * *
Федотов выдохнул, положил палец на спусковой крючок.
Перевел прицел на Балагура.
Балагур — с расстояния в сто с лишним метров — смотрел точно ему в глаза.
Ждет. Как только Батя дрогнет, полковник поднимет большой палец вверх, и Федотов казнит зарвавшегося пацана. Надо было и раньше это сделать. Прямо в той злополучной экспедиции, пока Князев рубил тростник. Балагур так и предлагал, но Батя уперся. Говорил, что сын за отца не в ответе.
А надо было прикончить его тогда, в тростнике. Выстрелом в затылок.
Убить и забыть. Как они прикончили почти два десятка лет назад его отца.
И вдруг Федотов словно увидел профессора. И был он таким, каким Федотов видел его в последний раз живым — окровавленным, уничтоженным.
Это для обычных первомайцев, для массы, для толпы, помнящей справедливого и человечного лидера, он просто пропал без вести, оставив плоды своих трудов и добрую память о себе. Для них троих, спаянных круговой порукой, кровью спаянных, он оставался жив. Как нарыв на душе, как заноза, которая вроде и не беспокоит особенно, но которую не вытащишь. Он жил вместе с ними, с их больной совестью. И с возрастом, со временем, разрастался в ней, как раковая опухоль.
Перед майором из темноты и пустоты, как старинный фотоснимок, все четче проявлялось залитое кровью лицо умирающего Князева, его похожий на клекот шепот. Слова можно было услышать, только склонившись к запекшемуся рту и чувствуя на щеке мельчайшие брызги крови, вылетающей с дыханием из пробитых сломанными ребрами легких, — его страшную улыбку, проступившую на треснувших, с дрожащими алыми каплями, губах… С ней он и умер тогда, а они все никак не могли остановиться и месили, месили, месили кулаками и ногами безвольное тело, окончательно лишая его сходства с человеком. Прерывались на несколько минут, чтобы глотнуть водки, не опьяняющей отупевший от ужаса содеянного мозг, и снова возвращались к бесполезному уже делу, мстя мертвому человеку за свои ошибки.
Кто тогда пришел в себя первым? Середин? Балагур? Он, Федотов? Майор не помнил. И не любил возвращаться мыслями к этому. Не любил и боялся. Будто мог кто-то призвать его к ответу за прошлое преступление — одно из многих, но наиболее памятное — и выставить счет левой руке президента.
— Убирайся к черту! — выкрикнул он в темноту и пришел в себя.
Никого, решительно никого вокруг. Ни мертвых, ни живых. Только он и верная винтовка — подарок безымянного киллера.
И переходящий в рев океанского прибоя ропот толпы внизу…
* * *
Игорь выдыхался. Он недооценил противника, его выучку, выносливость, отточенное годами мастерство убийцы, и теперь это стало очевидно. Возраст оказался не такой уж помехой для этого будто вылитого из чугуна пожилого мужчины. Пусть лицо набрякло нездоровой багровой кровью. Пусть вздуваются темные желваки в тех местах, где Игоревым кулакам удалось добраться до его плоти, пробив совершенную защиту. Пусть кровоточит в который раз перебитый нос, Князеву досталось больше, гораздо больше. И все тяжелее парировать паровые молоты президентских кулаков, все уже поле зрения и труднее найти, предвидеть бреши в обороне, все чаще заволакивается все дымкой и противно, тянуще, проворачиваются в мозгу какие-то колеса, грозящие швырнуть в омут беспамятства. Равносильного смерти.
И противник это понимал.
— Сдавайся, — прохрипел он, когда их лица на миг оказались вблизи. — Сдавайся — я не буду добивать. Останешься жив и уйдешь. Сдавайся.
Руки стали тяжелыми, как стальные рельсы, так трудно их поднять. Неподъемно тяжелы и безвольны, как вываренные макароны. Он проиграл. Он безнадежно проиграл. Зачем же еще и умирать? Надо лечь и тем самым прекратить бой. Лежачего не бьют. Это позор, бесчестье, но не смерть. От позора не умирают. Сдаться?
— Ни за что! — Молодой мужчина с трудом выдавливал из себя тягучие, как резина, слова: — Сдавайся ты!..
Рук не поднять, но выпад головой достиг цели: под оглушительный рев толпы президент отлетел на несколько шагов и замер, тяжело мотая головой, как бык, получивший удар мясницким забойным молотом между рогами.
Не упускать момент! Вперед!
Усталые мышцы, казалось, натягивались и лопались, как перегруженные тросы, но Игорь, шатаясь, сделал несколько шагов к все еще пребывающему в нокдауне Бате, готовясь нанести решающий удар…
А там, в своем логове наверху, майор припал к окуляру прицела, поймав на острие целеуказателя мокрую от пота и крови стриженую голову претендента. Черный треугольничек, не отставая, полз за темной родинкой на пульсирующем виске бредущего как во сне Князева. Указательный палец прижал подушечкой спусковой крючок демпфера, едва слышным щелчком освободивший тот, основной, который оставалось теперь лишь тронуть. Движением, не поколебавшим бы даже цветочный лепесток…
«Финита, Князев?.. — Жестокая улыбка тронула губы Федотова. — Вот ты и проиграл, наконец…»
Обращался он совсем не к бойцу на арене, а к тому, кто уже не мог ответить.
Между пальцем и рифленой поверхностью спускового крючка оставался миллиметр…
До противника оставался еще шаг, и Игорь не представлял, как он нанесет удар, — сил не оставалось даже на то, чтобы согнать, если потребуется, муху с носа, когда случилось непостижимое.
Батя вдруг боднул воздух перед собой и тяжело осел на одно колено, упершись окровавленными кулаками в пол ринга.
Еще один шаг под рев беснующихся зрителей…
Но решающий удар не потребовался — Середин мягко завалился на бок и распростерся навзничь, далеко откинув в сторону безвольную руку.
И потрясенная толпа затихла на миг при виде поверженного кумира, чтобы взорваться оглушительным воплем через мгновение.
— Король умер! Да здравствует король!..
Федотов метнулся прицелом к Балагуру. Тому сейчас было не до майора — он подлезал под канаты, спешил на арену. До спускового крючка осталось полмиллиметра…
Игорь стоял на трясущихся ногах, из последних сил держась, чтобы не рухнуть рядом с безжизненным телом Бати, и тупо смотрел, как сразу несколько человек ворочают и тормошат лежащего, а тот мотается в их руках безвольной тряпичной куклой.
Он жив, — поднял лицо к нависшему над ним каменной глыбой Балагурову медик. — Жив, хотя и без сознания. Обширный инсульт, надо полагать, — все симптомы налицо. Сколько протянет — не берусь сказать, но жив.

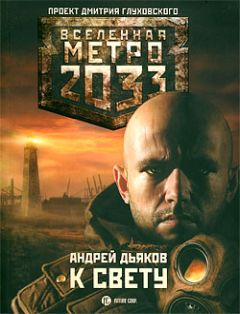

![Сергей Антонов - МЕТРО 2033: В ИНТЕРЕСАХ РЕВОЛЮЦИИ [Темные туннели 2]](https://cdn.my-library.info/books/98348/98348.jpg)

