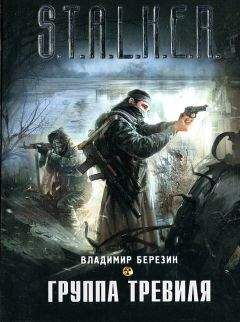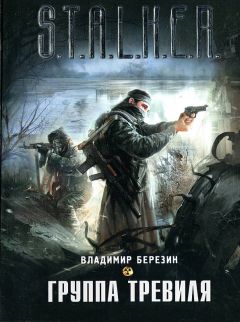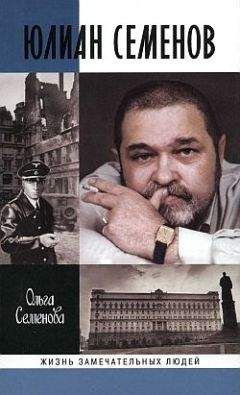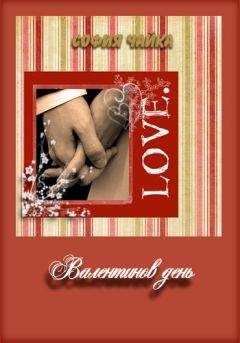— Да наплевать на это везение! — сказал Мушкет. — Я тебе принесу счастье.
— А что с контрактом?
— Не важно. Вместе мы горы свернём.
— Ладно, увидим. Просто я не знаю, как теперь жить без мечты. Да и снаряжения у меня теперь нет, надо наново обрастать всем, что нужно.
— Я достану. Ты пока лечись. Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?
— Очень, — сказал Палач.
— Я принесу еду и газеты. Отдохни, Эрик. Я возьму что-нибудь у ребят в аптеке.
— Не забудь сказать Атосу, чтобы он взял себе голову гипножабы.
— Не забуду, — угрюмо ответил Мушкет, который хорошо помнил, что от головы у гипножабы остался один пустой череп.
Когда Мушкет вышел из номера, где заснул Эрик, и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал.
В этот день в гостиницу приехала группа туристов, и одна из приезжих женщин вышла гулять в страшно дорогом и совершенно бессмысленном на охраняемой территории экзоскелете. Она ходила по территории и вызывала усмешки у старожилов.
Наконец она дошла до биоплощадки и заметила среди разного мусора гигантский белый скелет.
— Что это такое? — спросила она потом бармена, показывая на длинный, но скрученный позвоночник огромной гипножабы.
Бармен сам положил на него глаз, но никак не мог придумать, как его использовать.
— Кровосос, — сказал бармен по-русски. — Кровосос. — Он хотел объяснить ей все, что произошло.
— Вот не знала, что у кровососов такой небольшой рост и странный скелет!
— Да, и я не знал, — согласился её спутник.
Наверху, в своей хижине, Палач опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил Мушкет.
Мушкету очень не нравилось прерывистое дыхание учителя, и он несколько раз перекладывал его бесчувственное тело. И вот, когда он опять запустил руку, чтобы просунуть её между спиной учителя и простынёй, его рука наткнулась на что-то твёрдое. Он ухватил этот предмет и вытащил его на свет. Это была закатанная в пластик с твёрдой подложкой старинная фотография.
Было видно, что сделали фото ещё на старинный фотоаппарат, на чёрно-белую плёнку, а потом кто-то оцифровал снимок, а потом ещё поработал над ним в графических редакторах.
Мушкет заглянул в лица запёчатлённых на фотографии людей и задумался.
Мужчина, обнимавший девушку, был определённо сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач. Правда, не было у него никакого капюшона на голове, да и был он лет на двадцать моложе. Высокий, красивый, с вьющимися волосами, он обнимал молоденькую девочку.
Она показалась Мушкету странно знакомой…
Точно, это была Миледи. Та, какой она была на третьем курсе.
Мушкет перевернул фотографию и увидел, что на обороте надпечатано: «Чернобыль-4, курсовая практика, июль-август».
Миледи улыбалась на фотографии, хотя стоять ей было явно неудобно: молодой Эрик держал её явно не по-дружески. Откровенно говоря, он её просто лапал, не стесняясь объектива.
Мушкет вспомнил всё то, что говорили на факультете о жизни Миледи, вспомнил и себя самого, когда-то также снимавшегося рядом с ней, и вздохнул.
Потом он тихо подложил снимок на прежнее место.
А сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач ничего этого не чувствовал.
Он просто спал, а дыхание его было прерывисто и неровно.
Палачу снились сильные и молодые и вовсе не опасные Чернобыльские псы.
Гельмут вышел на асфальт и, вскинув руку с парабеллумом, выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал после того, как услышал автоматную очередь и еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль: «Я же не сказал ей, как зовут девоч…» И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер.
Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений весны»
Зона, 25 мая. Роман Гримович по прозвищу Гримо. Зеркальный автомат — как родился Калашников. Гримо как проводник правды. История с Бэкингемом — гибель с крысой в обнимку. Гримо узнаёт лишнее — и, как всегда в таких случаях, появляется фигура с Капюшоном.
Гримо обходил свои владения и первым делом зашёл в лаборатории — сначала к биологам (там было пусто), а потом к физикам.
Физики, наоборот, веселились и даже выпили с утра, что было необычно.
— Что празднуете? — хмуро спросил Гримо.
— Вот что, — сказал, блеснув очками, московский контрактник, и сдёрнул со стола простыню. Там лежал автомат Калашникова — с виду обычный. Но через секунду Гримо понял, что с ним что-то не то.
Какая-то засада была с этим автоматом.
И ещё через пару секунд он осознал, что это знаменитый Инвертированный Ствол.
Его давно искали, лет пять, слухи об этом автомате ходили дурные, и на его памяти за него назначали денежные премии. Никто, разумеется, Инвертированный Ствол не принёс. Да оно и понятно — этот автомат считался заговорённым, бесовским.
Дело в том, что он был в полном смысле «левым» — рукоять затворной рамы, которую Гримо видел, была слева. И сам ствол был зеркальным отражением обычного автомата.
Учёные даже обращались к разным оружейникам по всему миру (благо «Калашникова» кто только ни производил) с вопросом, не делал ли кто левого автомата. Но нет, как бы гуманизм оружейников не простирался до создания оружия для левшей. Убивать так убивать.
Существовала версия, что автомат каким-то образом побывал в аномалии, что поменяла «право» на «лево».
Однако такие аномалии науке были неизвестны. То есть были инвертирующие точечно, выворачивающие наизнанку, а вот зеркальных аномалий не наблюдалось.
Гримо поздравил физиков и пошёл к себе в кабинет.
Нужно было посмотреть свежие сообщения от полевых групп.
Сообщений не было, и это его раздражало.
Те, кто находился в маршрутах, часто говорили потом, что по необъяснимым причинам пропала связь.
В это Гримо не верил.
Собственно, радиосвязь в Зоне есть, это легенда, что в Зоне связи нет. Выгодно было говорить, что выйти в эфир или отбить текстовое нельзя.
Это придавало особую прелесть левым маршрутам в экспедиции, выгодно было время от времени отключиться — причём многим было выгодно. Сталкерам, учёным, солдатам — отключился и вне контроля.
А надо — включился.
И вертолёты летали, и всё тут было.
Но аномальность Зоны никуда не денешь, хоть связь была. Ну да — она прерывается. То надень, то на два.