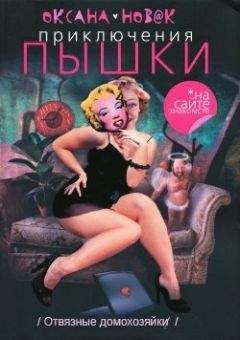Ознакомительная версия.
— Вылезай, приехали!
Так и не обдумал он ничего — не успел. Шагнул в подъезд — как в чёрный омут бросился. Где-то в горле стучало сердце. В какой-то момент страстно захотелось, чтобы её не было дома.
Но она там была. Одна. Очень тонкая, очень бледная, стриженая почему-то как мальчик. Сидела на казарменной своей кровати в одной маечке, обхватив странно покрасневшими руками голые острые коленки. Смотрела в пустоту. Форменное платьице аккуратно висело на спинке стула, но знаки различия были спороты. «Уволили, значит, — отметил Тапри машинально. — На что же она теперь живёт?» Из маленького казённого репродуктора под потолком неслись бравурные звуки военного марша. На жёлтой клеёнчатой скатерти появилось бурое пятно, прожженное утюгом, как раз на том месте, где прежде была смешная рожица. В комнате пахло сыростью и голодом.
И тут только он понял, что снова забыл постучать. Спросил запоздало:
— Можно?
Она вскинула на него светлые глаза.
— Ты?!! — выдохнула чуть ли не с ужасом. — Пришёл ко мне?!!
— Да я… вот… — замялся он, мысленно клеймя себя «слабоумным». — Завелось тут у меня… — он протянул на раскрытой ладони баночку с красной помадой, — всё думал, кому бы отдать… самому-то не нужно… Дай, думаю, Вегде снесу… Вот… нет, правда, возьми!
Она не брала. Она его и не слушала даже. Слёзы катились по испуганно улыбающемуся лицу — так плачут от счастья.
— Ты пришёл ко мне! Я знала, знала! Я верила!
… Как же хорошо, что господин цергард Эйнер надоумил взять рацию! Не то сидеть бы дядьке Хриту в машине весь день до темноты!
В этот раз вышло даже лучше, чем в первый. Тогда подарок — чудесный, незаслуженный — принимал он. Теперь сам дарил любовь и прощение. Теперь она чувствовала себя обязанной ему. Он знал: никогда в жизни, что бы между ними ни случилось в дальнейшем, не попрекнёт её за ту измену. Прощал искренне, хотел, чтобы забылось всё, как дурной сон. Но понимал: она не забудет. И благодарна будет всю жизнь…
…В наше время не принято верить в Праматерь-Вдовицу, нужно делать вид, будто не существует её на свете, будто добрые боги — лишь вымысел невежественного человеческого ума.
Если правда это — чем объяснишь, что с того самого дня, как застал её с другим, чужим и ненужным тот, кого она мысленно уже называла своим женихом, вся жизнь Вегды Зер-ат полетела в топь с откоса? Не иначе, осердилась на неё Праматерь, что упустила, продала за болотный ил дарованное богами женское счастье…
Того, чёрного и волосатого, больше не видела ни разу, ушёл, и имя забылось. И не осталось ничего, всё, что принёс, съелось в три дня. А на четвёртый её уволили со службы, без объяснения причин. Первая мысль была: неужели милый мальчик Тапри отомстил так низко, воспользовавшись своим служебным положением? Оказалось, напрасно на него подумала, усугубив тем свой грех. Вечером, перед самым комендантским часом, забежала подруга-сослуживица, рассказала, что слышала, хоть и права не имела. Ни при чём был юный адъютант, Вегда сама перепутала номерные отправления, чудо ещё — обошлось одним увольнением. Такие дела лагерем, а то и расстрелом пахнут. Повезло…
Но жить после эдакого везения стало не на что. С «грязным» послужным листом куда примут? В уличные бригады — завалы разбирать. Ворочать тяжёлые камни, таскать битый кирпич, тела убитых откапывать и сгружать в топь. Для такой работы какая же сила нужна! Но пошла — пришлось. И упала в первый же день, едва ногу не размозжило носилками. Встала — в глазах темно, круги плывут какие то… А во рту солоно, и в ушах шумит. Бригадирша, здоровенная баба подошла, из жалости сунула в руки неотработанный пайковый талон, и отослала прочь. «Ступай девка, и не выходи больше. Мне падёж на рабочем месте ни к чему. Загнёшься, того гляди — отчётность испортишь. И спасибо скажи, не успела в послужном запись сделать, как чуяла, что не выдюжишь!..»
Тогда пошла она в госпиталь — приняли. Поставили к корытам. В огромном прачечном зале день и ночь, день и ночь посменно, по двенадцать часов, под окрики штатных санитарок, гнулись над огромными корытами измученные трудом женщины, отстирывали в кипятке грязное, заразное солдатское бельё. Его бы сжечь по хорошему… Один за другим шли эшелоны. Огромные кучи кровавого тряпья высились вдоль стен, и меньше не становились, сколько ни работай — сверху то и дело спускались новые порции. Жара кромешная, едкие щелочные пары, удушливое гангренозное зловоние, не заглушаемое самыми сильными антисептиками, смешанное с запахами старой крови и свежего пота. У женщин распарено-красные злые лица, красные распухшие пальцы, расшлёпанные ступни босых ног. Из одежды — вечно мокрый серый халат на голое тело. Волосы велено стричь коротко, под гребёнку. Защитных перчаток на всех не хватает, работают голыми руками. Окунул — прополоскал — отжал, окунул — прополоскал — отжал, и так без просвета… Палец треснул — к корытам не подходи, пока не залечишь, таскай воду из котла огромными вёдрами, сотни вёдер в день. За полнормы пайка. Пораниться нельзя — это смерть. Перед сменой — обязательный укол от гангрены. Колют — больно до слёз, и сидеть потом больно, а помогает что-то не очень. Вот и той, на чьё место заступила Вегда — не помогло. Говорят, царапина была пустяковая — содрала кожу об ушко ведра. Сгнила в две недели заживо, потом её халатик здесь же отстирывали. Страшно.
Пять дней боялась Вегда, следила за собой, а на шестой поняла, что ей уже всё равно. Безразлично. Жизнь утратила смысл. Даже еда, которой так всегда не хватало, о которой так мечталось, потеряла вкус. Теперь она уже с удивлением вспоминала о том, что совсем ещё недавно любила порезать ломтиками свежий хверс и пожарить на рыбьем жиру, что мечтала раздобыть свежую офицерскую рубашку и пошить из неё новую блузочку ко Дню Федерации, что по выходным они с подругой ходили в кино или кафе, и она с нетерпеливой радостью ждала этого дня всю неделю… Теперь она ждала только одного — конца очередной смены. И желаний у неё больше не осталось, кроме как умереть. Пожалуй, она была от этого недалека — какая-то непривычная лёгкость появилась в теле, и в ушах не прекращался странный гул.
И настал день, когда она просто не вышла на работу. Подумалось — а зачем? Какой смысл? Не лучше ли встретить конец в собственной постели, чем подле вонючего корыта, как умерла вчера девчонка-водоноска, тоже из наших? Стала разгибаться, поднимая свою ношу — а дальше люди не сразу поняли, что произошло. Показалось, будто перевесили её вёдра, села между ними на корточки, и застыла. Санитарка прикрикнула даже: «Чего расселась, как у праздника? Живей, живей!» Тряхнула за плечо — она и свалилась. К стенке отнесли, грязной простынёй накрыли — так и пролежала до конца смены, скрючившись… Ради чего? Отдала жизнь за паёк, а он ненужным оказался…
Ознакомительная версия.