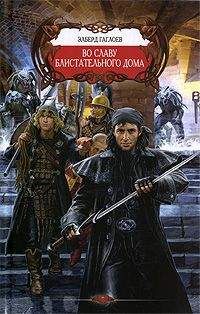— Ты знаешь, там, откуда я пришел, есть такая наука — аналитика.
— Я не желаю знать, что это за наука. Я желаю знать, откуда тебе все это известно. Или ты можешь рассказать, что было дальше?
— Могу. Только сядь, не горячись, — и руки в непривычном мне жесте улеглись вдруг на пояс
Как ни странно, он сел, не отрывая глаз от моего пояса, а я с удивлением уставился на две рукоятки, в которые обратилась сложная пряжка.
— Ты посланник, — мертвыми губами констатировал брат Гильденбрандт.
— Да? — счел необходимым удивиться я.
— С чем пришел ты к нам? — тускло спросил прелат. — Что принес и кому?
И вдруг дошло. Прежде чем дать Вовке в челюсть, я переложил в правую руку (чтобы не покалечить дите) портфель. А в портфеле была та самая нагрудная пластина, которую Леха, наш друг ювелир, покрыл по просьбе Маги арабской вязью.
— Какая с виду эта твоя скрижаль?
— Широкий полумесяц, покрытый письменами, — быстро ответил мой собеседник.
— Какими?
— Обычными. Лишь при прочтении они вспыхивают священным зеленым огнем.
— Дай мне какой-нибудь письменный текст.
— Какой?
— Любой.
И оторопевший от этой бурной реакции старик протянул мне лист бумаги. А на нем четким почерком струйного принтера изгибалось в вечном танце вызывающе красивое арабское письмо.
— Мать твою, — я вскочил, отчего высокое готическое кресло с грохотом рухнуло на пол. — Эта штука у меня дома! Едем!
Почтенный старец резко хлопнул снизу по столу и одним прыжком перелетел через стол.
— Что же ты молчал? — проорал он на меня, яростно вытаращив круглые серые глаза.
— А что же ты не спрашивал?
Вбежавший секретарь, увидев как мы весело орем друг на друга, торопливо сунул руку под обширную черную рясу.
Дед яростно блеснул в него глазами.
— Машину к первому подъезду, — и заметив заминку, — Бегом!
Секретарь рухнул на одно колено и с громким стуком шарахнул головой по полу.
— Инш-алла, — люто рявкнул в ответ и ломанулся к дверям, выдергивая из-под рясы мобилу.
— Это кто еще? — в очередной раз столкнулся я со странностью этого мира.
На что услышал равнодушное:
— Шахид.
Я поперхнулся услышанным и не смог сдержать следующего вопроса.
— А во что вы веруете?
Брат растер меня презрительным взглядом по полу.
— В Единого Господа Бога нашего. Распятого Христа и брата его Меченосного Магомеда.
— А господь кто? — Обалдел я.
И получил как дубиной промеж ушей.
— Оба.
Я замолк. На бегу такое множество информации усвоить трудно.
Как мы неслись! А в голове моей неслись с той же скоростью мысли. Что я делаю? Вправе ли я вмешиваться в спор, древний как этот мир?
И мне сразу захотелось дать себе затрещину. Я не вправе помочь своим братьям, таким же людям, как и я?! Не надо рефлексий. Эти — мои. А те — чужие. Друг с другом мы сами разберемся. И морды друг другу побьем, и напьемся, и нацелуемся. Но это наши морды и бить их вправе только мы. И если в моей голове осмелился появиться такой вопрос, то грош ей цена, да и тому, на чьих плечах она торчит тоже.
Второй раз за сутки во двор наш со скрипом тормозов, распугивая полутьму раннего утра проблесками фонарей, влетали черные лимузины Святой Инквизиции.
— Одень вот это, — протянул мне вдруг брат Гильденбрандт украшенный камнями обруч.
— Куда?
— На голову.
Он, наверно, уже тогда что-то подозревал, этот зверехитрый инквизитор, человек, верящий сразу в Двоих, последователи которых никак не уживутся в моем мире, привыкший к соседству персонажей из сказок.
Огненным шаром ударила граната в бок второго лимузина и тот взорвался, расшвыряв пылающие фигурки, куски обшивки, двери. Быстро отворились двери трейлера и в лоб нашей машине из полутьмы огромного короба на колесах ударили струи двух крупнокалиберных пулеметов.
Секунды держалось лобовое стекло, но избитое трещинами поддалось, и оболоченная смерть в кровавые брызги разнесла двоих, сидящих впереди.
Меня как морковку из грядки выдернул из машины брат Гильденбрандт на ходу, треснув по ободу, послушно закрывшим мою голову жидким металлом шлема. А у церковного спецназа выучка оказалась на высоте. Меня еще вытаскивали, когда я увидел влетающий в открытые двери трейлера шарообразный предмет, идентифицированный мной как граната. Гулко полыхнуло алым, а с другой стороны лимузина что-то громко охнуло и трансформаторная будка, с которой подорвали вторую машину, сложилась игрушечным домиком.
Тот, что бросил гранату уже дернул красивую блестящую дверь моего подъезда, когда через крышу изрубленного очередями лимузина перевалился второй, в руках которого густо дымила какая-то толстая труба. А первый распахнул дверь и вдруг замер. Сутана на спине натянулась и с тихим хрустом лопнула под напором узкого лезвия. Он еще секунду постоял и рухнул, громко зазвенев доспехами.
И переступив через него, нам навстречу шагнула давешняя медицинская сестра в обтягивающем тело как вторая перчатка мышастом костюме для верховой езды. Воздух вокруг нас вдруг загустел, и мы оказались в окружении множества тощих большеглазых людей, вооруженных длинными острыми клинками, с наброшенными на левую руку черными плащами с алым подбоем.
— Вампиры, — спокойно констатировал я и два меча, смазанными полосами вылетевшие из пояса, заставили потомков товарища Дракулы на пару шажков отступить. Но, тем не менее, треугольник наш был блокирован достаточно плотно.
— Ты нашел меня, Палач, — с той же волнительной хрипотцой сообщила она. — Вот мы и встретились в другой обстановке, Человек Скакун. Привет и тебе, воин Церкви.
— Прости, дорогая, но мне сейчас не до твоих прелестей. Ты видишь, сколько гостей. Всех попотчевать надо, — не поворачивая головы, крикнул я. Но краем глаза с сожалением увидел, что из дверей появилась еще полудюжина. И не такие субтильные, как эти кровососущие мастера мимикрии. А крутоплечие, поджарые, с толстыми шеями, вооруженные длинными прямыми палашами.
— Я не скажу тебе, здравствуй, Палач, и доброго дня не пожелаю. Как, тебе нравится? Теперь понимаешь, что чувствовал мой отец, когда его вели на костер? Понимаешь?!
— Уйди с дороги, девчонка, — гулко вдруг раскатился тяжелый голос старого воина. — Лишь то, что ты семя брата моего, спасает тебя.
Окружившие нас недовольно заворчали.
— Брата?! — гневно взлетело к небу. — А как же на костер брата?
Но ярость промяла еще более лютая ярость.
— Замолчи, дитя. Не тебе мерить ту боль, что берем на себя, и не тебе считать те слезы, что проливаем мы, и не тебе мерить длину шрамов на сердцах наших, когда детей Божьих, гордыней и злобой обуянных, во Славу Его на очищение огненное возводим. И не тебе мерить горе мое, когда брат мой, кровь крови моей, плоть плоти моей, моей же рукой к подножию костра был приведен. — Набатом загудел голос прелата