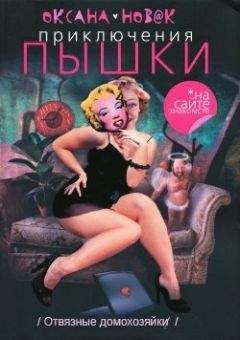Ознакомительная версия.
Но вот пошёл дождь, и ему в самом деле стало чуть легче. Потому что теперь никто не мог узнать, что к пресным каплям, струящимся по его лицу, примешиваются солёные…
Прошло часа три, не меньше Процессия подползла, наконец, к границе топи. К ближайшему её чёрному окну были подведены лёгкие, покатые жестяные мостки на железных сваях. Тело покойного спустили с открытой колёсной платформы, едва не уронив, таким грузным оно было. Увернули в серое полотно целиком — ах, сколько полотна пошло, на троих бы хватило, прости господи! Перевязали орденскими лентами. Спихнули кое-как по зашатавшимся, прогнувшимся мосткам… Оно ещё лежало, покачиваясь на поверхности окна несколько минут, и распорядители церемонии запаниковали: неужели, не уйдёт само, неужели, надо было прикреплять груз? Но раздалось знакомое чавканье голодной топи — и они вздохнули с облегчением. Толпа взвыла, сотрясаемая последними дружными рыданиями. А потом вдруг как-то быстро, по-деловому рассосалась. Пока и впрямь бомбёжка не началась!
Обратный путь Эйнер проделал на машине Азры, тот не хотел оставлять его одного. Усадил на заднее сидение, рядом с сыном Лорги, прилетевшим, ради похорон, из старой столицы, где состоял начальником Президентской охраны — лёгкая служба, ни к чему не обязывающая должность, как раз по его уму. Мальчики переговаривались дорогой, время от времени всхлипывали — всё-таки не железным был Эйнер, да и Лорги дядюшку Сварну любил с детства, потом оба немного успокоились, даже улыбаться начали, что-то своё, из детства, вспоминая… Цергард Азра поглядывал на них украдкой в зеркало заднего вида, и всё отчётливее сознавал очень неприятную вещь: убить цергарда Эйнера он теперь, скорее всего, не сможет. Даже ради общего блага.
…— Ну, что, схоронили? — с ненатуральной бодростью спросил пришелец Гвейран.
Из-за широкой спины его выглядывал заплаканный Тапри. Адъютанту в траурном шествии участвовать не пришлось, приказано было срочно выверять списки заключенных исправительного лагеря № 2-АР-У и сопоставлять с накладными на питание и прочей приходно-расходной документацией. И он сначала был даже рад этому, потому что слишком расстраивали его прощальные церемонии. Но по радио передавали прямую её трансляцию, и из репродуктора, который в такой день запрещено было выключать, то лились щемящие траурные мелодии, то раздавались голоса дикторов, дрожащие от слёз… Короче, всё равно, наплакался.
Гвейрану было очень неловко. Его всегда удивляло то, как сочетается в церангарах крайняя жестокость и истерическая сентиментальность. Арингорадский обычай устраивать всенародные рыдания претил ему до тошноты, особенно неприятно было видеть, как в них участвуют близкие ему люди. И всё время, пока юный агард заходился плачем, вдобавок, не поддельным, напоказ, (как, ошибочно полагал пришелец, поступало большинство) а самым натуральным, — он себе буквально места не находил. Слонялся по комнатам неприкаянно и злился. Мучительно хотелось то по шее надавать страдальцу, то пожалеть, как маленького. Он опасался, как бы не вышло продолжения с цергардом Эйнером, у которого, к тому же, имелись все основания для слёз, потому что покойный приходился ему кем-то вроде дядьки.
Но Верховный внешне казался совершенно спокоен — успел взять себя в руки. Ответил ровным голосом:
— А как же. Ясно, на тверди не оставили… Ну, что у вас со списками? Отработали?
Агард Тапри смущённо потупился: немного может наработать человек, чьи глаза залиты слезами.
— Какое там — отработали! — хмыкнул пришелец. — Не до того было, рыдали мы!
— Потому что горе — всенародное! — с неприязнью пробурчал агард: если не понимает пришелец чуждым своим разумом таких естественных человеческих чувств, пусть лучше не лезет с комментариями.
— Тогда почему ты меня не подпустил, если у тебя горе? — вопрос был задан нарочно. Для цергарда Эйнера, сам Гвейран уже знал на него ответ.
— Потому что сведения засекреченные, — терпеливо, не в первый раз уже, разъяснил Тапри. — Нужен особый допуск. Есть у вас особый допуск? Нету. Ну и всё.
Цергард Эйнер присвистнул: экие тут без него, оказывается, сложности возникли! Не знаешь, как и реагировать, чтобы никого не задеть! Ведь формально Тапри был абсолютно прав: к документам с жёлтым кодом он не имел права допускать никого постороннего, будь это даже его отец родной. Но с точки зрения здравого смысла… Нет ничего глупее, чем ставить жёлтый код на бумаги такого рода. Каким образом списки заключённых могут повлиять на обороноспособность страны? Да хоть в газете их пропечатай — ровным счётом ничего не случится! Какой был смысл скрывать их от пришельца? Пусть бы себе работал. Глядишь, дело уже было бы сделано, ночная догадка подтверждена или опровергнута. А из-за чрезмерной ответственности адъютанта вышло промедление…
Но бранить Тапри он не стал — решил, что сам виноват, надо было точнее давать указания. Вместо этого сходил в рабочий кабинет за бланком, и собственной рукой выписал на регарда Гвейрана расширенную степень допуска. Сперва хотел высшую, но потом подумал, что Тапри это может уязвить; уж так гордился юный адъютант исключительным своим положением — не хотелось отнимать радости.
— Вот вам. Работайте. Вся ночь впереди! — сказал ехидно, и вышел. Ему предстояло сделать ещё одно дело: пристроить новый портрет на стену памяти.
В ту ночь цергард Эйнер спал как убитый — измучился за день. И кошмары его не беспокоили, и совесть не мучила из-за того, что сквозь щель в комнату пробивался из кабинета лучик света, доносился шелест бумаг и приглушённые голоса.
Семерым же соратникам его спалось плохо. Все пребывали в состоянии нервного ожидания: оглашение имени преемника покойного цергарда Сварны было назначено назавтра. Вообще-то, по законам и обычаям Арингорада, полагалось выждать шесть дней, и только тогда обнародовать последнюю волю усопшего. Но Совет постановил сделать исключение: в суровое военное время ни один из государственных постов не может пустовать так долго, это может пагубно сказаться на обороноспособности любимого Отечества.
Цергард Эйнер знал совершенно точно: любимое Отечество не погибнет за шесть дней даже в отсутствии действующего главы ведомства пропаганды и агитации. Просто господам-соратникам не давала покоя интрига: ведь не было собственных детей у дорогого покойничка! Кого же он выбрал себе на смену? Каким окажется новый расклад сил, что даст каждому из них лично? Нового союзника или нового врага?
Всё это он знал совершенно точно, но возражать против нарушения процедуры не стал: чего ради? Не до пустых споров ему было. Старался держаться, чтобы не радовать врагов и не огорчать близких, но на душе тошно было — хоть вой зверем-волком! От горя болело всё внутри, и непролитые слёзы резали глаза. Опухшими и липкими казались веки — даже в зеркало посмотрелся, не заметно ли со стороны? Ничего хорошего там не увидел, плюнул с досады и надвинул фуражку пониже, чтобы тень от козырька скрывала лицо.
Ознакомительная версия.