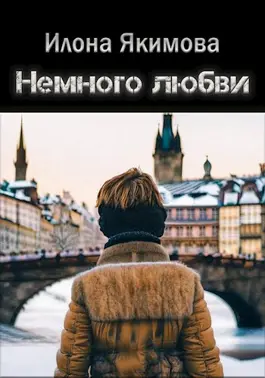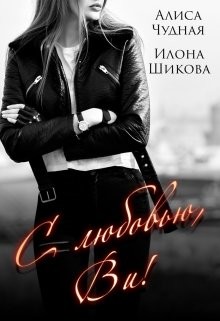разломами, поплыл под ногами.
— Я скучала.
— Знаю. Я тоже.
— Мне тебя не хватало.
— И мне.
— Я все равно не смогу…
— И это знаю, Эл. Я завтра уеду, оставлю тебя в покое. Сегодня побудь со мной.
И дальше уже не могли замолчать, не разнимали рук, как бывало прежде. Как будто отцепилась застрявшая десять лет назад шестеренка, жизнь вернулась на круги своя. Больше всего хотелось обнять ее, прижать к себе, ощутить целиком, но понимал — тогда не справится. Поэтому, чтобы не обнять, говорил, говорил… и не отпускал руки. Не потому что боялся за себя или за окружающих, но доверился собственной острой потребности касаться хотя бы так, ощущать, владеть. Она же не противилась? Не противилась, как тогда, подавалась, соблазняла одурманивающе мягко. Она слушала, пока он говорил. О чем? Как жил без нее, с кем был, где его носило, что видел и испытал. Выливалось словно само собой, очищая раны, довольно давно гниющие под слоем молчания, раны, которых не могло быть у небьющегося персонажа с инициалами «двойное G». Рассказывал про войну. Зачем? Он никому из своих женщин не рассказывал про войну. Но это же Эла. Она не женщина, она рядом.
Сбежав с Града, бродили по городу до темноты, выбирая малолюдные закоулки — да она больше и не пыталась ни на кого броситься, уже мог бы поклясться, что и тогда — показалось. Но память — штука подлая, с памятью у Яна Грушецкого был полный порядок. Теперь она могла есть, а он мог кормить — и любое уместное заведение с человечьей едой было к их услугам, чтоб сидеть там, как бывало раньше, глядя друг на друга в упор, касаясь визави под столом, целого мира не замечая. Как же с ней легко и прекрасно было пропадать от обычной жизни, как в ней сладко было тонуть…
На Карлов мост вышли ближе к полуночи.
За парапетом моста начиналась тьма. Влтавы не было видно, только вбитый в камень латунный крест. Эла остановилась возле него, пошарила в кармане и вдруг перегнулась через парапет. Бросила вниз, в воду скомканные листочки, желтоватые — то ли сами по себе, то ли в свете фонаря. Клок размокшей бумаги быстро потемнел, пошел ко дну и пропал, как и не было вовсе.
Вблизи статуи Непомуцкого группа запоздалых туристов навеселе пыталась принять позы, явно несовместные с физиологией — и она глядела на них с непередаваемым выражением лица, которое, впрочем, было сейчас куда спокойней, чем раньше, теплее, ближе, нежнее.
— Что ты смотришь на этих несчастных, Эл? Что-то не так?
— Все не так. Они дурью маются. Так желания не загадаешь. Точней, можно, закон не запрещает как угодно раскорячиться на мосту — но оно не сбудется же.
— Ты знаешь как?
— Конечно. Бабушка рассказала еще в детстве. Крест Непомуцкого, вот тут, откуда его скинули…
— И никогда не загадывала?
— Нет. Это же работает только один раз. Тогда, с тобой — что еще мне было нужно, если всё уже есть? А теперь…
— Так, может быть, именно теперь?
Эльжбета вынула руку из его руки, распластала поверх креста. Последняя ночь скоро окончится, пробьет Орлой, карета превратится в тыкву, но Золушку не найдут. Ян стоял вплотную, притершись боком, опершись на гранит, прекрасный, как сто закатов, надежный, как две скалы, но все ж таки чужой.
Выдохнула, открыла глаза. Тьма, кругом одна тьма. Ни одной живой души кругом.
И тут в бок ей уперлось то, что можно было определить только как ствол пистолета.
— Вот теперь и поговорим, дарлинг, — молвил Ян Казимир Грушецкий.
Нелюбовь творит чудовищ.
Она перевела дух:
— Что желает пан журналист? Спускай уж сразу. Курок. Чего там.
— Ты не отрицаешь?
— Того, что ты хочешь меня убить? Это же очевидно. Но не убьешь, ты осторожненький мальчик, продумчивый.
— Так, возможно, я и сейчас… Продумал.
— Да брось. Ты не станешь убивать на Карловом мосту. Тебе никогда не хватало храбрости на любовь, так неужели хватит на мою смерть? Да еще настолько публичную?
— Так и будем стоять или пройдемся?
И они прошлись.
Он ожидал, что на мосту по мере их проходки она заорет, но даже не дернулась. Почему не заорала? Мирно прошли, правой упирал в ребра ствол, укрытый полой куртки, левой охватывал плечи, зарывшись в короткую стрижку лицом, как влюбленный. До Староместской словно бы долетели. Миновали «У Минуты», и укололо, что вот — этот-то знал, написал даже об этом, но разве ему поверили? И неужели психопат Новак прав тоже? Свернули в безлюдные задворки к Деве Марии пред Тыном. Тут она встала. Видно было, что ей очень хотелось оттолкнуть, что объятия не доставляли удовольствия — но потому и не выпускал, чтоб хоть так уязвить:
— В чем дело?
— Дальше не пойду.
— Почему?
— Ты правда не помнишь? Мы же тут целовались на прощанье под бой часов на ратуше. И ты ушел на десять лет. С хрена ли вернулся? Тебя не звал никто… Тут попрощаемся и теперь. Но уйду я. Насовсем.
Мария Тынская — две стороны одной монеты, как два лица Януса Казимира Грушецкого. Издалека пленяет геометрически выверенной готической красотой вознесшихся к небу башен-сталагмитов, а вблизи замурована в леса, оградки, заборы, обсажена контейнерами с мусором, вот уж сколько лет на реставрации.
— Настоящего разговора не было, Эла, я тебя не отпускал.
— Отпустишь, куда денешься. Спрашивай. Здесь и садись, — и села на ступени храма.
— Тут же холодно.
— Какая трогательная забота под дулом «глока». Да какая разница? Я неплодна, ты больше не зачнешь. Нам уже всё равно. Нам можно всё. Но для начала беседы признайся сам: к чему была вся предыдущая комедия?
— К тому, чтобы ты доверилась, не заподозрила раньше времени и не исчезла. Мне удалось?
— Вполне. О, вполне.
Человек не меняется — если однажды предал тебя, предаст тебя снова. Мужчина не меняется никогда в своем единожды принятом отношении к женщинам, и если он говорит тебе, что ты другая — то верный признак подставы. А она снова купилась, потому что решила, что Ян не предаст ее дважды. Это Ян-то! Думаешь, что ты считала другом? Приглядишься — а там пустота. А что ты любила? Ее, родимую. Наиболее страшный кошмар: люди не то, чем кажутся, больнее всего предает самый близкий. Одно хорошо — опыт, возраст, профессия, квалификация подготовили