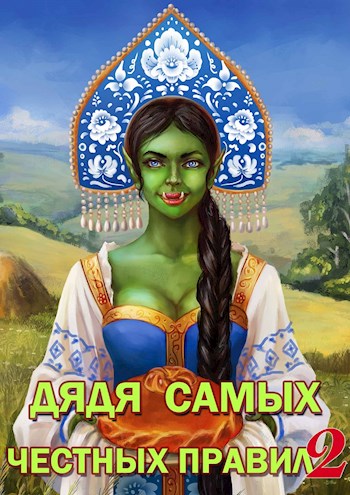тихонько шепнул, что она тоже едет. И орка приняла в метаниях самое деятельное участие.
В конце концов выезд отложили на завтра. Меня приодели, и Настасья Филипповна вместе со всеми горничными кинулись готовить Александру. Поездка планировалась долгая, так что они всю ночь что-то шили, резали и гладили. Где-то там, в общем веселье, новый сарафан шила себе Таня. И даже Диего не удержалась и включилась в женскую суету, советуя и тоже что-то сооружая из ткани.
Утром вся эта компания смотрела на меня красными от недосыпа глазами и требовала ещё день, а лучше неделю или две. Три! Пришлось рявкнуть на них — эдак я вообще в Муром никогда не попаду. Я приказал закладывать два экипажа и грузиться немедленно. И на все умоляющие взгляды ответил — будет нужда, пошьём что нужно в городе, портные там есть. А теперь быстро-быстро собираемся! Как это ничего не сложено? Бегом!
* * *
Выехали мы после обеда. В одном экипаже я с Бобровым, в другом Александра и Диего. Таню я посадил к себе: нечего ей с возницей на ветру сидеть. Если кто-то против и косо смотрит, то это его проблемы — я, в конце концов, помещик, имею право возить свою крепостную где захочу.
— Костя, — Бобров разлёгся на сиденье напротив и грыз травинку, — а во Франции девушки красивые?
— Ты же был там, когда за мной приезжал, не смотрел, что ли, по сторонам?
— Да что я там видел! Всё бегом, бегом, тебя нашёл и сразу обратно. Где уж тут разглядеть, кто вокруг ходит. Ну так что, красивые?
— Разные, Пётр. За дворянок не скажу, не смотрел, а мещанки разные. Есть хорошенькие, есть страшные. А тебе зачем?
— Родители пишут, мол, жениться мне пора и всё такое.
— На француженке? Тебе здесь невест мало?
— Да, понимаешь, родня у меня уж больно склочная. Сразу начнут ей про меня рассказывать гадости, настраивать. Обязательно будут через неё просить у меня, чтобы за племянников хлопотал: учиться не хотят, а я их пристраивай.
— И?
— Французский язык родственники не знают, вернее, так говорят, что она их ни за что не поймёт. И будет у меня тишь и благодать.
— Тогда, лучше на катаянке женись.
— Почему? — он даже привстал.
— У них язык сложный, у нас его никто не знает. Так что ни родственники ей нашептать не смогут, ни она тебе. А про домашние дела ты ей жестами объяснишь.
— Да ну тебя, — Бобров заржал, — катаянка, тоже скажешь. Слышал, они рис любят, а я его терпеть не могу. Да и глаза у них узкие, буду всё время думать, что она меня подозревает в чём-нибудь. Нет, останусь холостым пока. Мне и так неплохо.
Он полежал ещё, сгрыз травинку до половины, и снова спросил:
— Костя, ты в Италии бывал?
— Неа, денег не было.
— И я нет. Говорят, хорошо там, красиво, тепло. Культура всякая: храмы, фрески, статуи. Еда вкусная.
Я пожал плечами — хорошо там, где нас нет. А стоит приехать, обязательно выяснится, что фрески облупившиеся, у статуй руки отколоты, а еда дорогая. Но говорить этого Боброву я не стал: пусть себе мечтает, полезно для развития воображения.
— Пётр, ты лучше расскажи про княгиню.
— Какую?
— К которой мы едем. Марья Алексеевна, правильно?
— Ага. А чего рассказать?
— Из какого рода, что любит, какие взгляды, почему одна живёт.
Бобров почесал переносицу.
— Долгорукова она. Между прочим, с Талантом средней силы. Только… ммм… эксцентричная очень. Родственники за голову хватаются.
— Сумасшедшая?
— Костя, так никто не говорит, она же княгиня.
— И в чём её эксцентричность?
— Кошек держит, штук тридцать. Любит выпить рому, табак нюхает, в карты играет, сквернословит без стеснения. Обожает музицировать.
— Прости, а музыка тут причём?
— Эм, — Бобров поперхнулся, — увидишь. Вернее, услышишь.
— Это всё?
— Заводит молодых любовников, а потом со скандалом их бросает. Поселила у себя какого-то ниппонца с мечом — тот за ней ходит телохранителем, даже в спальню. Уже лет двадцать как освободила всех своих крепостных. Из них десяток семей выбились в купцы, но барыню свою не забывают, приезжают к ней с подарками, поддерживают деньгами.
Бобров наклонился ко мне и перешёл на шёпот:
— Ходят слухи, что она оскорбила матушку-императрицу. Вроде бы сказала, что такой прекрасной женщине нужен нормальный мужчина, а не напыщенные хлыщи-фавориты. За это её и сослали в Муром.
— Серьёзно?
— Я же говорю — слухи, точно никто не знает. Но она уже несколько лет из Мурома никуда не выезжает.
— Понятно.
Откинувшись на сиденье, Бобров замолчал, будто раздумывая. Он закрыл глаза и через минуту захрапел — укачало беднягу на муромских дорожках. Ну и ладно, пусть спит, уставший наш. Всё равно уже скоро приедем, до Мурома не слишком далеко.
* * *
Вокруг особняка княгини раскинулся шикарный парк. Немного запущенный, но вполне симпатичный. В просветах между кустами мелькали мраморные статуи, дорожки, посыпанные песком, и беседки. Экипажи остановились у входа, и мы наконец-то выбрались на твёрдую землю. Под конец поездки меня тоже знатно укачало от тряски по колдобинам.
Бобров, выскочив из экипажа, шепнул мне:
— Подождите, я доложу княгине, что это вы. Проверю, что она не передумала, а то неудобно получится.
Он рысцой взлетел по лестнице, а я прогулялся вокруг экипажа, разминая ноги.
— Константин Платонович, — ко мне подошла Александра, — а какие у нас планы? Мы на бал поедем?
— Пока не знаю. А что, так хочется?
Рыжая покраснела.
— Хочется. Никогда не была на настоящем балу.
— Если будут приглашать — обязательно соглашусь и возьму вас с собой.
Из дверей особняка вышла целая процессия слуг в ливреях и прошествовала к нам.
— Урусов Константин Платонович и сопровождающие его лица, — громко возвестил самый напыщенный из них, — княгиня Марья Алексевна будет рада видеть вас у себя в гостях!
И уже тише добавил:
— Прошу следовать за мной. О багаже не беспокойтесь, мы позаботимся.
Внутри особняка царила атмосфера лёгкой запущенности и общей расслабленности. Кое-где отвалилась лепнина, ковровые дорожки чуть потёрты, мебель заметно старая. Но в то же время чисто, пыли нигде не видно.
Нас привели в большую гостиную, где во множестве горели магические свечи — пламя чуть с синевой и запаха нет совершенно. Навстречу нам поднялась женщина: роскошное платье из дорогой ткани, густо напудренное до белизны лицо, чёрная мушка на щеке, парик с длинными локонами. Сказать, сколько ей лет, было невозможно — то ли тридцать, то ли все семьдесят. А вот голос был звонкий, ничуть не старый.
— Константин! Ну хоть кто-то из тёмной