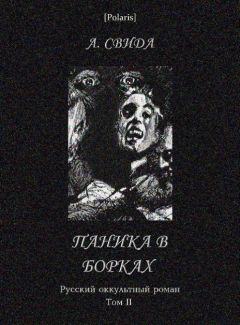— Пшоль вон, русский пьяниц, — грозно поднялся навстречу Митьке Карл Карлович.
— А, да ты еще не унялся, — скрипнул последний зубами, — видел, как меня красавица-барыня объехала?! А ты, колбаса протухлая, за шиворот вздумал Митьку Хруща хватать, да об землю кидать. Это тебе с ненароку удалось! А ну-ка, сунься теперь. Ты меня при всей артели осрамил; ступай, прохвост немецкий, при ней же и прощения проси, а то я тебя, такой-сякой материн сын, — полилась отборнейшая митькина брань, — в порошок сотру!
Растерявшийся немец отступил в угол и инстинктивно загородился столом. Рука его потянулась к звонку, но в тот же миг по ней ударил Митька.
— Ты это, сукин сын, за звонок хватаешься? Знаешь ли ты, дьявол, что своим дзиньканьем у всей артели нутро вызвонил? Долго ли ты, пиявка немецкая, кровь нашу пить будешь? За каждую малость штрафами одолевать? Проси прощения, говорю!
— Пшоль вон! Ка-ра-уль, — не своим голосом аавопил немец.
В ответ зарычало тоже нечеловеческое: a-a-a-a!
Грохот падения мебели, — возня, — крик, — … и… тишина.
Через минуту на крыльце показался бледный, совершенно отрезвевший Митька.
Что за диво!? Перед домом ни души; в парке вовсю стучат топоры и несется многоголосая, разудалая песнь.
Идет туда Митька… стал…
— Братцы, я немцу бока помял… Только, кажись, жив… Отлежится… теперь твоя воля, Иван Ефимович!
Белый, как мел, Тихонов сидел на пне.
К Митьке подошел десятник.
— Айда, парень, через лес, домой. Никто ничего не видел и не слышал… В артели, сам знаешь, давно гудит, как в улье; ты за всех на себя расправу взял. Опять же пьян был, значит, в себе не волен… Моли Бога, чтобы только не помер… Иди…
Глава VIII Полонез мертвецов
Угрюмо смотрит закрытыми ставнями дом Потехина. Внутри взято и вывезено только серебро, белье, платье, картины, чтобы не соблазнять воров; остальное не тронуто.
Таково было желание старика Потехина. Завяли обвисшие гирлянды и рассыпанные по столам и полу цветы, вызывая в наглухо закрытом помещении запах тления.
Жутко глядят лишенные стекол окна. Пробивающийся сквозь щели ставней солнечный луч, дробясь в осколках хрусталя, не оживляет общей картины разрушения, наоборот, увеличивает жуткое чувство.
Так и кажется, — зашуршит шелковое платье, застучат по паркету каблучки, повеет легким ароматом духов от развевающегося воздушного покрывала невесты, и зазвучит голосок Зои.
Шумно поднимутся навстречу ей гости, зазвенят бокалы, польются приветственные речи, поздравительные тосты…
Но все это только кажется!
Никто и ничто не нарушит мертвой тишины свадебно убранных покоев, хотя эта тишина уже отчасти нарушена.
Сквозь неплотно заколоченное окно пробралась в спальню Зои пара ласточек и в углу, за туалетом, в сборках атласа и лент свила себе гнездышко.
Не боятся они привидений…
Тепло, уютно будет их крошечным деткам. Да и не одни они в дом.
В самой глубине коридора низкая дверь; за ней светлица няни.
Стены обложены свежевыстроганными бревнами; мелкий переплет окон скупо пропускает свет; громадная пузатая печь с лежанкой занимает большой угол комнаты; у одной из стен кровать с горой взбитых перин и подушек.
В главном углу старинная образница с лампадой; вдоль стен широкие лавки, покрытые самоткаными коврами, на столе расшитая ширинка и под окном прялка.
Монотонно жужжит веретено; под умелой морщинистой рукой тянется ровная бесконечная нитка.
По целым дням неустанно прядет древняя старушка.
Из ее выцветших глаз одна за другой бегут, застревая в морщинах лица, слезы; забывает вытирать их старушка, да и вытрешь ли их все?
Не чувствует их она.
Вся ее душа всегда там, у страшной воронки, на Майском проспекте.
Мысленным взором видит она обломки кареты, окровавленную дымящуюся груду лошадиных трупов, а там, значительно дальше, среди группы голубых елок, зацепившуюся за ветки подвенечной вуалью головку Зои. Сколько надрывных воспоминаний, тяжких… и не уйдешь от них никуда.
Не боится она жить здесь одна.
Наоборот, — не уйдет отсюда по доброй воле. Ближе она здесь к своей деточке… Сама комната эта создана ее последним капризом.
Вот — на стене старинный сарафан блестит позументами и камнями. Под образами на резном блюде засохшая «хлеб-соль».
— Не зазвенит больше твой голосок, пташечка ты моя сладкопевная; не потреплет больше морщинистых щек атласная рука и не закроет уж родной человек усталых глаз, когда придет время вечного отдыха.
Да полно, придет ли уж когда-нибудь мой черед отдыхать. Не забыл ли обо мне Господь Милостивый? Не потянется ли моя ненужная никому жизнь так же бесконечно длинно, как вытягиваемая из пряжи нитка?
Монотонно жужжит веретено… Капают горькие старушечьи слезы…
Обыкновенно в это время она уже ложится на покой, только сегодня ей как-то неможется или просто не по себе.
Быть может, это потому, что день выдался небывало жаркий. С самого утра солнце начало невыносимо палить, а к полудню уж и дышать было нечем.
В саду под окном не шелохнется ни листок, ни травинка. Даже пичужки замолкли, разомлели.
К вечеру открыла было окно, ан ветер поднялся. Подхватил песок, пыль, соринки, закрутил, понес, а там силы набрался и бором тряхнул.
Зашумели, заскрипели вековые сосны… Гнутся вершинами, точно друг другу кланяются.
Темно сразу стало, а свежести нет. Воздух густой, тяжелый. Быть грозе. Минута-другая зловещей тишины. Утих ветер, притаились деревья, точно собираются новый порыв встретить.
Тяжелая черная туча надвинулась, повисла над Борка-ми. Ослепительно-яркий зигзаг — и раскатился гром.
А там и пошло! Молния за молнией, точно все небо в пламени; а удары так и следуют друг за другом. Еще не затих один, другой еще громче рассыпается.
Деревья не шелохнутся. Вот-вот опалит какое-нибудь с вершины до корня.
Няня лампадку перед иконой поправила, на колени стала — молится.
Что-то жутко сегодня и ей, никогда ничего здесь не боявшейся.
— Пошли, Господи, дождичка. Нехорошо, всухую гроза!
И точно молитва ее услышана — хлынул дождь. Целые потоки полились с неба, да так и пошли на всю ночь.
Не спится няне…
Молнии реже стали. Минут по десять, а то и больше не освещают ее комнатку, а за окном будто светом все залито. Фонарь, что ли, с улицы?
Нет, он эту часть сада не освещает. Сюда выходят окна из бывшей биллиардной комнаты. Ее к свадьбе под второй танцевальный зал очистили, а над нею зоюшкины комнаты расположены.
Подошла к окну старушка.