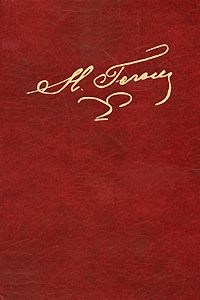евойную всю повыловили, в казамат посадили, один Абсалямка остался. Тут он, слышь, возьми да и покайся! Встретился ему святой старец…
— Из мусульман?
— Зачем? Абсалямка — татарин-татарин, а крещёный. Даже имечко ему какое-то православное нарекли, только никто выговорить не мог — так и звали по-старому: Абсалям… И поставил его старец чёрных овец пасти. Как, говорит, побелеют — так с тебя все грехи твои кровопролитные и снимутся… Пас он, пас — томно ему стало. Смотрит: обоз с табаком (а табак тады дорог был). Он обозников всех порубил, табак склал, пожёг и пепел по ветру развеял. Так и так, думает, пропадать: грехом больше, грехом меньше… Приходит к овцам, а овцы все белы! И старец при них. «Это, — говорит, — тебя Господь во грехах простил! Оттого и овцы побелели, что ты табаку много сжёг».
— Знакомая история, — заметил я. — А теперь ещё и актуальная… В монастырь, небось, ушёл?
— Хто? Абсалямка? Не дождёсси… Видит: сняты грехи — ну и давай проказничать по новой! Прибёг ко мне, повинился…
— Неужто снова есаулом взяли?
— Ох, взял… Полсотни дал ему под начало… Ён мне потом ишшо под Синбирском пакость учинил. И мораль на меня навёл: Стеньку-де там разбили… Да я в энто время в Дербене был! Не меня там разбили, а Абсалямку… Вздумал озоровать, татарска лопатка, выстрелил пулей в соборный крест!
— И что?
— Попал.
— Да я понимаю, что попал…
— А сам кровью облился и в упадок пришёл.
— Это как?
— Упал замертво! Тут я из Дербеня подоспел, а уж поздно: воевода князь Барятинский все пушки нам заговорил — не стреляют, и всё тут… Пришлось на кошме уплывать по Волге, а тело Абсалямкино так и бросили. Вот лежит он, лежит, ни земля его не берёт, ни зверь не трогает, ни птица, а потом подходит к нему поглядеть сам воевода Барятинский, Юрий то есть Никитич. Нагляделся и говорит: «Собаке — собачья смерть!» И как он только энти слова сказал — вскочил мёртвый Абсалямка на ноги и убежал Бог весть куды. Тоже не прост был… Вот с той поры так с ним ни разу и не стренулись… А ты толкуешь: дьявол… Куды там дьяволу!
* * *
Кочевое моё барахло сохло теперь на сундучной крышке. Трепетал неугасимый костерок. Глуховатый размеренный голос рассказчика гулко отдавался в опустевшей пещерке.
— И грянули энто мы на Каспицко море…
— На кошме грянули? Или на ковре?
— На стругах… А куды спешить? Не пересохнеть, чай… Вздумалось закусить. Подворотили к берегу, идём селом. И попадается встречь девка двадцати семи лет. Поздоровкался с ней: «Здравствуйте, красна девица!» — «А вы что за люди?» — «Мы, — говорю, — купцы. Не слыхали чего про Стеньку Разина?» Испужалась…
— Это та самая Маша была?
— Она… Смышлёная, враз смекнула, кто таков. «Милости просим, — гутарит. — Накормлю, напою». — «А где твой дом?» — «А вот на берегу Волги угольная хата». Привела, посадила за стол, накормила, напоила… «Нельзя ли, — говорю, — голубушка, с тобой познакомиться?» — «Отчего же, можно…» И повадился я к ней ездить…
Глава 7. МАША, БАНЬКА, СЫНОВЬЯ
Ну вот чего этим бабам надо? Стала девка богата, первая на селе — нет, вздумала, как бы его изловить. Обиду, видать, какую затаила. Раз приплыл он к ней на кошме и говорит:
— Ну-ка, сходи, принеси четверть водки!
Принесла.
— А истопи-ка мне баньку!
Истопила. А сама побежала на село (хата, понятно, на отшибе строена, чтоб народ зря углём не марать) и сказала старшине: Стенька, мол, в бане парится. А тот дал знать в город. Наезжает из города начальник со стрельцами, да и не с простыми со стрельцами — особыми. Обступили баньку, думают, как им Стеньку взять. Один посмелее глянул в оконце, откуда дым выходит, а внутри-то вроде и нету никого — один стакан стоит на низком полке. И видит стрелец: стакан поднялся сам собой и так в воздухе испрокинулся, как будто кто его пил. Страшно стало стрельцу — отпрянул и всё рассказал, что видел. Только ему не поверили: кто ж в бане водку-то пьёт? Разве дурной какой! Банный дедушка и жена его Обдериха страсть как пьяных не любят — удушить норовят. Это ты, говорят стрельцу, сунулся в оконце да угорел.
Хотя, ежели умом-то пораскинуть, Стеньке законы не писаны: ни в бане, нигде. Ему только квас нельзя было пить — Господь проклял.
А что незрим сделался — так это он стебель травки Железа за правую щёку положил. Добрая травка, только говорить ничего не надо: скажешь слово — тут же явишься воочию.
В ту пору идёт из села старый старичок.
— Что у вас за сходка?
— Да вот хотим Стеньку изловить.
— Где вам, братцы, его изловить? Тот ещё на свете не рождён! Рази мне старые кости потревожить да показать вам Стеньку?
Снял шапку, перекстился три раза, постучал в стенное бревно — и тихим голосом:
— Степан, а, Степан…
— Ась? — отозвался Стенька — и сразу стал виден. Показал свой живой образец.
Оделся, подпоясался, вышел. Тут его и взяли.
Начальник говорит:
— Надо в кандалы заковать.
Ан, старичок опять встрял:
— Нет, — говорит, — нельзя его в кандалы. Дай-ка сам свяжу.
Взял мочёное лыко, связал ему руки и ноги — знал, видать, старый хрен, что железо Стеньку не берёт. Посадили на подводу, привезли в острог.
Трое суток он там сидел, на четвёртые является аж сам губернатор. Увидел — раскричался:
— Может ли, — кричит, — сидеть такой разбойник связан мочалами? В железо его!
Ему толкуют: так, мол, и так, нельзя Стеньку в железы ковать — вырвется. Куда там! Слышать ничего не хочет. Что тут прикажешь делать — сковали. И только они за дверь — тряхнул руками-ногами, кандалы-то и распались. Взял уголёк — и давай что-то на полу малевать.
Прочие колодники смотрят, дивятся:
— Ты чаво там малюешь, малевич?
Стенька ухом не ведёт — знай себе мажет. Намазал большой чёрный ковадрат. Надел обратно кандалы (для виду) и просит водицы испить. А тюремщики, видать, не разумели, что Стеньке только квас подносить можно — с квасом он ничего поделать не мог. Сколько раз так бывало: поднесут ему водицы, не знаючи, а он нырь в неё — и поминай как звали.
Но тут он по-другому учинил.
— А ну-ка, ребята, айда ко мне!
Скричал всех поближе, плеснул из ковшика на пол — и как хлынула вода отовсюду, а чёрный-то ковадрат возьми и обратись в ковёр трухменской работы