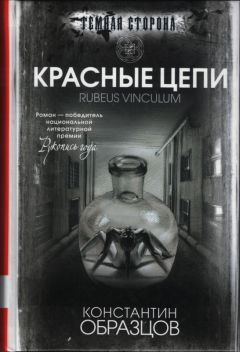Они не хотят слишком явно обнаруживать слежку, поэтому у меня есть несколько минут форы. Я на ходу разбираю мобильный телефон, убираю корпус в один карман, засовываю аккумулятор в другой и оглядываюсь. Двор небольшой, почти квадратный, с тремя покосившимися хлипкими дверями черных лестниц и одной низкой аркой в углу. Я быстро подхожу к одной из дверей, толкаю ее и вхожу.
Сырой полумрак, пропитанный запахами плесени, хлорки и крысиного яда. Из узкой черной двери подвала сочится вонючий удушливый пар. Стены покрыты густыми зелеными разводами грибка, лестница покосилась, на месте некоторых ступеней чернеют провалы. Я осторожно преодолеваю первый пролет, стараясь держаться поближе к стене: так меньше вероятности рухнуть вниз, если гнилая лестница под ногами вдруг решит обвалиться именно в этот момент. На узкой площадке первого этажа стоит почерневший то ли от ржавчины, то ли от копоти остов детского трехколесного велосипеда. За двумя распухшими от сырости и времени толстыми дверьми квартир первого этажа мертвая тишина. Я аккуратно придвигаю велосипед ногой к самому краю лестницы и поднимаюсь выше. Расшатанная рама на площадке между вторым и третьим этажом приоткрыта, и я как раз успеваю занять рядом с ней наблюдательную позицию, когда во двор вбегают два человека. Я вижу их сквозь грязное стекло, покрытое пылью и дождевыми потеками, держась чуть в глубине полутемного помещения, чтобы меня нельзя было заметить снаружи. Двое быстро огладываются, перебрасываются несколькими негромкими словами, потом один из них устремляется к арке, ведущий в другой двор, а второй решительно направляется к двери, в которую две минуты назад вошел я.
Снизу доносится тихий скрип. Потом осторожный, почти совершенно бесшумный шаг, еще один, и человек замирает, прислушиваясь к вязкой липкой тишине, насыщенной подвальными испарениями. Я перестаю дышать и немного отклоняюсь в угол между окном и стеной, чтобы он не заметил меня снизу через лестничный пролет. Снова осторожные шаги. Секунды ползут, словно с трудом преодолевая сопротивление удушливой атмосферы. Внезапно раздается дребезжащий жалобный грохот — это задетый ногой моего преследователя рухнул предусмотрительно поставленный на самый край верхней ступени остов детского велосипеда. Снизу доносится шипящая брань, потом торопливые шаги и раздраженный удар захлопнувшейся двери. Я выгладываю в окно: человек быстрым шагом пересекает двор, направляясь к другому черному ходу.
Времени у меня немного. Я не знаю, какие инструкции есть у этих парней на случай, если они меня потеряют, но почти не сомневаюсь, что скоро сюда подтянутся остальные группы и начнут прочесывать квартал вдоль и поперек. Впрочем, для того чтобы обойти полностью все местные дворы и закоулки и проверить каждую квартирную нору им потребуется весь день. Но все же медлить не стоит. Я быстро поднимаюсь наверх, мимо грязных стен, покосившихся дверей с гроздьями засаленных звонков, перешагиваю через порванные пакеты с мусором, добираюсь до конца лестницы и открываю низкий чердачный люк. Осторожно ступаю, стараясь не задевать ногами скромную утварь отсутствующих днем обитателей чердака: почерневшую кастрюлю, скомканный грязный ватник, разбухшее от грязи и насекомых одеяло. Еще несколько шагов в пыльной темноте в сторону пробивающейся через щель полоски тусклого серого света — и я выхожу на крышу, вдыхая полной грудью мелкий моросящий дождь и серый влажный воздух низкого неба.
Два века назад дома в центре строились без всякого генерального плана, ориентируясь только на большие проспекты и улицы, проведенные, словно по линейке, под прямыми и острыми углами и расчерчивающие ровные пространства болотистой почвы, слегка прикрытой песком и булыжниками мостовых да застроенной кое-где низкими деревянными зданиями. Обычно подрядчик возводил четыре стороны дома, выходящие на проспекты или стихийно образовавшиеся в результате застройки переулки, которые были снабжены парадными подъездами разной степени благоустроенности в зависимости от предполагаемого уровня достатка жильцов. В центре образовавшегося четырехугольника располагался двор, куда выходили двери черных ходов, ведущих в кухни и предназначавшихся для прислуги. Получалось некое подобие средневекового замка: четыре стены, закрытый воротами двор и множество внутренних ходов, лестниц, коридоров и переходов. Потом к такому дому пристраивался еще один четырехугольник, потом еще и еще; дворы соединялись сквозными арками, образуя запутанные каменные лабиринты. Места для застройки в городе постепенно становилось все меньше, четырехугольники становились треугольниками, дворы уменьшались в размерах, все больше напоминая мрачные сырые колодцы, куда никогда не проникали солнечные лучи. Иногда дома неплотно соединялись друг с другом, и между ними образовывались пустоты, щели и каменные мешки, в которые тоже подчас вели арки и проходы, а иногда выходили лишь окна квартир, годами смотревшие друг на друга и на грязные стены с расстояния всего в пару метров. Так вырастали целые кварталы, похожие на беспорядочно набитую мебелью комнату, где между огромными шкафами и шифоньерами оставались узкие пространства, в которые забивалась сначала пыль и грязь, а потом появлялись и те существа, для которых грязь, сырость и мрак были лучшей средой обитания.
Сейчас я смотрел на такой квартал сверху. Иногда крыши над городским центром сравнивают с железным морем, то поднимающимся крутыми волнами, то опадающим до едва заметной ряби. Но я думаю, что это сравнение неверно. Скорее они походят на унылую череду могильных холмов, под которыми томятся заживо погребенные среди заплесневелых стен мертвые души и нездоровые тела. Холмы эти то вздымаются крутыми блестящими боками высоких курганов, то тянутся однообразными рядами, в которых то и дело зияют каменные ямы дворов-колодцев, которыми они изрыты словно разверстыми могилами, ожидающими своих мертвецов. Поверхности крыш блестят от оседающей небесной влаги и угрожающе наклоняются в стороны: одно неосторожное движение — и от стремительного скольжения по мокрому металлу, а потом и от падения в темный провал не удержит ничто — ограждения здесь, как правило, отсутствуют.
Я определяю направление и начинаю двигаться по крышам в сторону нужного мне дома, пробираясь мимо грубой кирпичной кладки старинных печных труб, мимо массивных каменных горловин вентиляционных шахт, натянутых проводов и покосившихся ржавых антенн, установленных, похоже, в те времена, когда Попов и Маркони еще только пробовали послать в эфир первые радиосигналы. Иногда то слева, то справа отвесно поднимаются высоко вверх глухие кирпичные стены домов, в которых торчат редкие грязные окна. Плоские и широкие металлические поверхности сменяются угрожающе наклонными, узкими тропами из скользкого железа, зажатыми между отвесной стеной и каменной пропастью, как дороги на горных перевалах. Чахлые деревца и целые кусты растут прямо из сырых, потрескавшихся кирпичей. Показываются и снова скрываются из вида, заслоняя друг друга, башни и башенки с узкими окнами, оскалившимися разбитым стеклом, и какие-то странные самодельные строения из листового железа, обмотанного ржавой проволокой. На одном из них белой краской поверх порыжевшего металла крупными буквами грубо намазана надпись: «На этой крыше живет не Карлсон! Уходи домой, пока живой!» В одном месте часть крыши отсутствует вовсе: неровный прямоугольник провала затянут запотевшим изнутри мутным и грязным полотнищем плотной пленки, под которой смутно виднеется огромная кухня: от множества плит валит вонючий пар, мелькают человеческие тени и слышится бранчливое многоголосие.