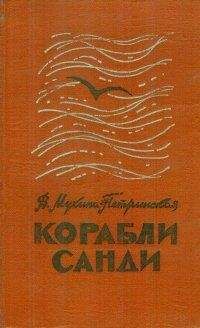— Куда вы предлагаете сбежать?
— Что ты думаешь о концерте? Я планировал посетить один сегодня.
— Я не одета для концерта.
Ёши оглядел меня с головы до ног. Его глаза смеялись:
— В самый раз!
Дыши, Пенелопа, просто дыши спокойно, и не нужно закатывать глаза. Вам нужно налаживать контакт, тебе с ним жить, ещё много-много лет, много-много лет…
— Давайте адрес, — вздохнула я.
— Ты на машине? Я покажу дорогу.
— А ваша машина?..
— Я приехал на трамвае, Пенелопа, — он снова развеселился.
— Нет прав?
Ёши пожал плечами. Я скрипнула зубами, деревянно развернулась на каблуках и пошла к парковке.
Я водила крупный, громоздкий автомобиль с большим кузовом, в котором обычно катались горгульи. Сегодня там лежал, умостив орлиную голову на львиных лапах, неуклюжий на вид гиппогриф с крошечными декоративными крылышками. Сделать эту махину летающей было практически невозможно, зато на тросе над ним расселись Птички — целая стая мелких крылатых созданий.
Я села за руль, Ёши устроился рядом, огляделся и сказал:
— Ты знаешь стелу у ботанического сада?
— Конечно.
— Туда и на набережную, а дальше я покажу.
Я кинула чары в рубиновую цепь, щёлкнула тумблером и взялась за рычаг.
Ботанический сад был почти на самой окраине Огица, — причём окраине промышленной, а не фэшенебельной. Я не слышала раньше, чтобы там был хотя бы один театр. Но, возможно, это была одна из новых сцен — они появлялись здесь и там, как травы после прихода зверей.
Колдовская музыка — это не только красота и богатство звука, но и смыслы; в богатой акустике залов звучат пронзительные старые истории о вере и долге, о любви и боли, о смерти и жажде жизни. Слова изначального языка звенят там запертой силой чар и волшебством, из которого сделано любое искусство.
— Кто выступает?
— Ты их не знаешь.
— И всё же? Я довольно хорошо разбираюсь в музыке.
Ёши прищурился:
— Пусть это будет сюрприз.
До набережной доехали в тишине; я нервно вцепилась за руль, а Ёши смотрел в окно. У трамвайного депо он оживился, вгляделся в освещённые тусклыми фонарями переулки и предложил мне заехать в какую-то подворотню и дальше за металлическую сетку забора.
Замечание про кольчугу как подходящий наряд становилось чуть более понятным. Угрюмое строение впереди было решительно не похоже на концертный зал, — скорее уж на какое-то злачное место из тех, откуда временами вылетают люди, избитые и без зубов.
— Не волнуйся, — вдруг сказал Ёши, заметив, видимо, моё замешательство. — Это действительно концерт, у меня арендован столик на балконе. Я планировал рисовать, но послушать тоже может быть интересно.
Я взвесила всё ещё раз. Мне надо бы было проверить чертежи дебаркадера, бабушка хотела обсудить что-то после ужина, а вся эта поездка была не слишком похожа на что-то продуктивное для установления пристойных супружеских отношений, — и по всему выходило, что мне не стоило соглашаться.
Здесь я живо представила, как Меридит поджимает губы и выплёвывает: «Испортили девочку!» — и решительно вышла из машины.
За тяжёлыми металлическими дверями оказался клуб: гулкое пространство с высокими потолками, заполненное надрывно-громкой популярной музыкой, смехом и криками. Цветной свет от софитов метался по залу яркими пятнами, то сходясь лучами на веселящихся людях, то вновь утопляя их в темноте; потолок задекорировали стеклянными трубками и искусственной зеленью; застеленная коврами сцена с массивной барабанной установкой пока пустовала.
Ёши двинулся влево, легко лавируя в толпе, а где-то с уверенностью ледокола заставляя их расступаться, — и я пристроилась за ним в кильватере. Басы из колонок били по ушам.
На балконе было тише и легче дышать; столики были отгорожены друг от друга балками, обвитыми искусственным плющом. Их придвинули к перилам, так, чтобы все зрители сидели лицом к сцене. Ёши галантно отодвинул мне стул, заказал яблочный сидр и вытащил альбом.
— Вы часто рисуете… в таких местах? — приходилось повышать голос, чтобы быть услышанной.
— В каких — таких?
— Вроде этого.
— Именно здесь — третий раз.
Я кивнула. Ёши аккуратно очинял карандаш над жестяной коробочкой.
— А где ты бываешь на выходных?
Я пожала плечами:
— В университете.
— И всё?
— У меня не так много свободного времени.
— Неужели у тебя совсем нет жизни?
— По-вашему, жизнь состоит из тусовок и алкоголя?
— По твоему, из работы?
Чтобы не кричать, приходилось сильно наклоняться друг к другу, — и губы Ёши легко коснулись моего уха. Я вдруг с ослепляющей ясностью вспомнила нашу первую брачную ночь и вздрогнула. Он отодвинулся.
Это было… некрасиво с моей стороны, и я почти собралась извиниться, когда на зал рухнули оглушительные аплодисменты.
Эти ребята были, кажется, здорово популярны, — и я действительно их не знала, потому что все они были двоедушниками и играли свою низкую музыку. В группе были барабаны, бас и гитара, даже без пианино, которое в таких кругах презрительно называли клавишами; вокалист был подтянутым двоедушником с голым торсом во множестве бессмысленных татуировок, одетый в расшитые пайетками брюки-клёш и галстук в горох. Кажется, у него было разрисовано лицо.
Он что-то говорил, публика визжала, барабанщик в майке-алкоголичке тряс над тарелками длиннющими лохмами, а гитарист подскакивал на месте, как будто плясал на углях. Ёши прищурился и распахнул блокнот.
Барабанщик задал ритм несколькими ударами палочек над собой, взревела толпа. Солист извивался у стойки и пел о сексе, экстазе и том, как стоит перед кем-то на коленях. Это был чистый эпатаж; он танцевал, обжимался с басистом, ритмично дышал в микрофон, а в какой-то момент облизнул палец и погрозил им толпе, вызвав этим визг фанаток.
Я скривилась и собиралась сказать что-то язвительное, повернулась к Ёши, заглянула через его плечо в блокнот — и замерла.
Потому что то, что он рисовал, было красиво.
Он ловил какие-то отдельные короткие кадры, эстетику тела, точные, яркие жесты, и в небрежных набросках стало вдруг видно, что вокалист умеет двигаться, играет на публику и имеет богатую, интересную мимику.
Как он смог вообще — разглядеть его лицо с такой высоты?..
Я привстала, перегнулась через стол, прищурилась. Сцену заливал синий свет с отдельными красными ударами-всполохами. Влажно и чётко звучал бас, ровный ритм барабанной бочки отзывался где-то внутри. Я откинулась на стуле, прикрыла глаза и вычленила из надрывного хаоса звуков скрипучее, буйное гитарное соло, — такое быстрое, будто пальцы у музыканта были не живые, а идеально-механические, — и смещённый ритм баса относительно барабанов, создающий странный, гипнотический диссонанс.
Вокалист пел, конечно, не куполом, нет — плотным, вязким, жирным звуком, близко и остро выведенным через оглушительную носовую резонацию. На высоких нотах сложно было сказать, поёт он или стонет; в куплетах он переходил на хрипловатый, плотный речитатив, в котором за чётким выговором почти терялась мелодия. Скрипучее, фактурное окончание фразы, — и снова читка, такая быстрая, что я не могу понять, когда в ней можно успеть вдохнуть.
А потом он заорал так, что мне стало страшно за его связки, — но крик перешёл в длинную, звеняще-плотную высокую ноту, а затем — в воздушный тонкий мелизм.
Я попыталась примерить на себя, как можно что-то такое с собой сделать — и не смогла; в этом богатстве звуков, так резко отличающихся от привычных мне песен, было что-то почти нечеловеческое и вместе с тем звериное, агрессивное, земное.
— Он крутой, — сказала я Ёши, отчасти сама в это не веря. — Это зверь? Какая-то певчая птица?
— Вокалист, по-моему, выдра.
Басы гремели, и в чрезмерно густом спектре сцепившихся звуков стонуще-хрипло перебирал ноты пластичный, объёмный тенор. Толпа ревела. Звонкий удар в тарелки — неожиданная тишина инструментов — вокалист проехался в строчке от штробаса в свисток, а затем прошептал в микрофон что-то чудовищно нецензурное — ритмичный звук барабанов, гулкая мелодия баса, сумасшедшее гитарное соло. Это было про страсть, порыв и настоящесть. Вокалист с нажимом, напором исполнял куплет и на восхитительно плотном богатом звуке въехал в припев.