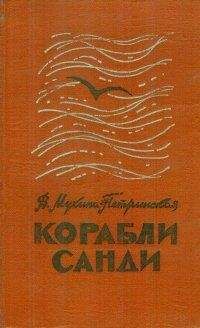Он направил микрофон в зал, — и человеческий хор оглушительно-чётко допел за него строчку.
xxxvii
Когда мы вышли из клуба, была глубокая, чернильно-тёмная, вязкая ночь, и на чистом небе сияли звёзды, — как будто оно, и в самом деле, натянутый над землями купол, который создатель проткнул кое-где иголкой. Они складывались в знакомый рисунок созвездий, и чуть правее немого остова радиовышки призывно сиял треугольник Южного Маяка; он звал к себе — в страшную, прекрасную даль, полную чудовищ и открытий, полную жизни, полную воли, полную смысла.
— Мне кажется, я поняла, почему тебе это нравится.
— Мм?
За спиной гремело. Концерт закончился, начались танцы, и теперь из колонок лилась примитивная ритмичная музыка, будто вся целиком состоящая из глухого баса и барабанного боя.
За спиной гремело, а здесь, на тротуаре перед сонной парковкой, было тихо-тихо. И в этой тишине легко было почему-то говорить пафосные, красивые слова, которые кажутся иначе смешными.
— Они живые, — сказала я.
Я вовсе не была уверена, что он поймёт или хотя бы не станет смеяться.
Но Ёши смотрел невидящим взглядом на Южный Маяк, его пальцы плотно сжимали блокнот с рисунками, а потом он уронил, так и не меняя выражения лица:
— Да.
Он понимал. Он видел тоже, как странно, как дико эти люди отличаются от нас, как бурлит в них странная сила, как ведёт их насыщенная земная связь, — и ему тоже хотелось, кажется, прикоснуться к ним хоть немного. Если ты колдун, ты никогда не бываешь один; если ты колдун, ты всегда — продолжение, ты тень, ты отражение, ты — капля крови на натянутой струне вечности. А они — отринувшие и отвергнутые — были сами по себе, занятые своей сутью и своим смыслом, наполненные — и свободные.
— Я вижу, — тихо продолжала я. — Я вижу, почему они выбрали Лес.
Это кощунство, почти-предательство, почти-преступление, — но Ёши снова кивнул:
— Да.
Он был ужасно, ужасно далёк — совершенный чужак, приехавший в город из неясных, размытых горизонтом гор, из хрустальных лунных дворцов, в которых всякая чушь называется искусством, а на театральной сцене танцуют маски, и всё оказывается не тем, чем кажется. Нас не сумели сблизить ни брачный обряд, ни отражённые зеркалами капли Тьмы в наших венах, ни договор, ни постель, ни даже сны.
И вместе с тем — прямо сейчас — он казался почти родным; единственным живым человеком на пороге катастрофы; драгоценным случайным прохожим в огромной пустоте космоса.
Я вздрогнула, сглотнула и сказала невпопад:
— Полнолуние.
— Нет, только завтра, сегодня ещё растёт. Видишь? Левый бок размыт.
— Разве это не облако?
— Нет.
Небо было чистое-чистое. Наверное, Ёши был прав. В «Колдовских вестях» печатали фазу луны на первой странице, прямо под номером выпуска, — но я не смогла вспомнить, какой она была сегодня утром.
— Мне всегда нравилась луна, — вдруг сказал Ёши, всё ещё на меня не глядя. — Я бегал ночами на берег, и как-то так получалось, что она всегда была на моей стороне. Высвечивала дорожки и прятала в тени меня. В квадратурные приливы в залив у дома приходили дельфины, и хотя ночью они по большей части спят, мы иногда… общались. И звёзды тогда были яркие-яркие, как глаза.
Я долго молчала, а потом прошептала:
— Я никогда не видела дельфинов.
И Ёши, конечно, рассказал про дельфинов: что они любят играть друг с другом и человеком, что они поют и стрекочут, и что считают корабли чем-то вроде больших неуклюжих собратьев, которых можно тоже взять в свою стаю.
— Я как-то пыталась сделать горгулью, которая смогла бы плавать. Вырезала из дерева что-то вроде кита из пластин, запустила в ванне, но он так и не поплыл нормально, там столько мелкой физики и всё так быстро меняется…
— Вода очень медленная. Как колдовство. Она усиливает и гасит, и ты ждёшь подходящий момент… Можно представить, что ты в невесомости…
— …но там есть прилив.
Я протянула к нему руку, — и наткнулась, как тогда, в церкви, на гладкую ткань и фактурное шитьё, а под тканью была ладонь и узловатые пальцы. Колючее, горячечное ощущение. Я бездумно провела по выпуклой жиле, тянущейся от запястья к костяшке, обвела жёсткий шар мозоли на среднем пальце, погладила шершавые подушечки — наши руки на секунду сплелись — его пальцы пробежали по моей ладони, и от этого почему-то запылали уши.
Это было похоже на танец: волнительный хаос движений, разрешающийся в каждом такте новой гармонией. Мы расходились, чтобы остаться на долгий удар сердца в невыносимом вакууме одиночества, и чтобы новое касание отозвалось внутри электричеством; мы предугадывали как-то движения, как будто мои были продолжениями его жестов, а его — продолжениями моих; как будто что-то было натянуто между нами нерушимой связью, как будто притяжение рождало приливы и отливы.
Потом мы разговаривали — всё там же, на пустой веранде громкого, дрожащего искусственной вибрацией усилителя клуба, — ни о чём и обо всём одновременно. Ёши облокотился на кирпичную стену и рассказывал о том, что скучает по птицам, — они прилетали раньше к нему на окно, и в глазах их были странные путаные образы мест, которых он сам никогда не видел. Ещё — что в друзах считается, будто истинный свет — от Луны, а Солнце — лишь зеркало, что его отражает, или призма, что фокусирует; и что когда-то он уехал к лунным, потому что у них он мечтал найти что-то настоящее.
Я говорила, что люблю теперь сидеть в склепе с Мирчеллой, — а когда-то, когда она только начала мне являться, боялась её, покойницы. Он казалась мне жуткой, полупрозрачной, какой-то хищной, она всё говорила невпопад, а я не умела её прогнать и отмахивалась лучом фонарика, как кинжалом; несколько месяцев потом я боялась спать без света. Ещё рассказывала, что когда-то, в детстве, занималась в художественной студии и даже любила ляпать тушью по ватману; потом мне сказали как-то, будто я — та самая ответственная ученица, которой хватит старания рисовать тень на снегу россыпью из множества точек. И я ставила эти точки, одну за другой, одну за другой, одну за другой, пока не возненавидела рисование.
Это не было диалогом. Он ничего не спрашивал, я ничего не спрашивала. Мы не ждали друг от друга никакой реакции и говорили просто так, в пустоту и тишину, в неверное отражение лунного света на грязном снегу; это было странно — и по-своему странно хорошо.
Мы ничего, по правде говоря, не знали друг о друге. Я не смогла бы вспомнить даже, на кого он учился, был ли женат раньше и как вышло, что он остался в своём Роду последним. И вместе с тем я знала о нём теперь вещи невероятно личные, — вроде того, что его внутренний голос говорит театральным хрипловатым басом, который получается у Ёши смешно и плохо. И он обо мне… тоже кое-что знал.
Наверное, наступит завтра — всё это забудется, смоется, выцветет, как старые фотографии, забытые на залитом солнцем столе. И сказанные слова покажутся глупостью, и вся это замершая в янтаре времени непонятная, странная лунная ночь станет короткой, неловкой, нелепой. Я предвидела это, я всё это проходила, я всё это знала, — и тем ценнее были хрупкие мгновения случайной интимности, тем отчаяннее я цеплялась в кружевную вязь непрошенных слов и глупую иллюзию, что именно сейчас я кажется — всё-таки — может быть — не одна.
— Те фигурки, — вдруг вспомнила я, когда Ёши замолк, дожидаясь, пока шумная компания прогогочет мимо, оглушительно хлопнут двери, закашляет дымом автомобиль. — Ты режешь их сам?
— Отражения?
— Да. Ты же принёс мне одну, с птицей. Кто это?
— Неклассический архетип, — он пожал плечами. — Она похожа на тебя. Ты понравилась бы моим птицам.
Я нахмурилась:
— Не знаю, нравишься ли ты горгульям. Честно говоря, — я вдруг хихикнула и перешла на таинственный шёпот: — не уверена, что я сама им нравлюсь.
— Может быть, они не знают, что такое красота. Мы смотрим каждый день на тысячи вещей, вовсе не осознавая их красивыми. — И тут же, без паузы и без перехода: — Водолей сегодня очень яркий.