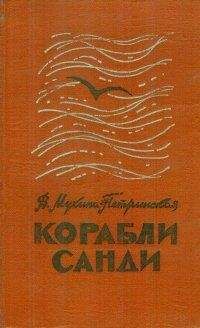Тем страннее было видеть, как рада она их видеть. Я давно не наблюдала за ней таких чистых эмоций и желания болтать без умолку; обеих внучек она называла солнышками, а Мадса — «малышом» и покровительственно трепала его по голове. Она, как вдруг выяснилось, не просто знала их по именам, но понимала, кто чем занят, и сыпала семейными подробностями вроде того, что кузина Ханне, оказывается, коллекционировала чаечьи перья.
Ливи ссадила Марека на Лариона, и добродушный Ларион качал ребёнка и смешно жужжал, когда ложка в роли летающей штурмовой горгульи стремилась залететь в детский рот. Сама Ливи углубилась с Ксанифом в обсуждение артефакта, который мог бы предсказывать извержение вулкана. Ёши смотрел только в тарелку, а у меня отчего-то кусок в горло не лез, — и я сочла за благо отлучиться на кухню под предлогом проверки големов.
В холле стоял теперь огромный, до середины бедра ростом, металлический шар на подставке — метеоритное железо, привезённое Морденкумпами в подарок бабушке. Что она с ним станет делать, было не ясно: после замужества она потеряла дар сминать металлы силой.
— Немедленно вернись в столовую, — отчитывала Меридит. — Пенни! Это детское, детское поведение! Что за глупая ревность!..
И только в этот момент меня как водой окатило: это действительно была ревность.
Меня она никогда не называла «солнышком» — только «солнце моё», и это означало крайнюю степень неудовольствия и разочарования.
Мне не пять лет, напомнила себе я и постаралась сбросить неприятное, сосущее оцепенение, в котором тонули звуки. А Урсула закатила глаза и проскрипела:
— Я тоже гоняю тебя, как при нагрузочном тестировании. Но это потому, что я должна вырастить из тебя настоящую Бишиг!
— Брак с Се был дурной затеей, — вставила Меридит и поджала губы. — Этот человек имеет на Пенелопу плохое влияние.
И даже Мирчелла смотрела на меня с осуждением.
Я наблюдала, как кухонный голем водит кулинарной горелкой над креманками с крем-брюле, имитировала сосредоточенный интерес и вместе с тем понимала: Ёши действительно плохо на меня влияет.
Ещё несколько недель назад я не заметила бы во встрече с Морденкумпами ровным счётом ничего неприятного. За это время мало что изменилось, но вот она я — дуюсь, как дурочка, на излишне тёплую встречу бабушки с родственниками, потому что придумала всякие глупости и возомнила о себе невесть что.
Чтоб он провалился в Бездну, этот Ёши!
xxxix
— Меня выбрали Старшей, когда мне было одиннадцать.
Так я сказала вчера, когда луна почти закрыла собой Южный маяк. Мы стояли на веранде клуба так долго, что у меня стали стучать от холода зубы; тогда Ёши зашёл внутрь и попросил пару стульев и пледы, и мы отставили их подальше от выхода и сидели там, до странного близко друг к другу, и мои пальцы лежали в его руке.
Так я сказала; но, по правде говоря, это была не совсем правда.
Дело в том, что нас не так и много осталось — настоящих Бишигов. Мой отец попался на чернокнижии, отрёкся от Рода, а теперь и вовсе умер; дядя Демид, дальний, но очень одарённый родственник, ушёл в кругосветное плавание почти тридцать лет назад — и никто не знает, что с ним стало. Теперь были только я и Ливи, а Ливи подростком била посуду, хлопала дверьми и посылала бабушку плохими словами.
Тогда Керенберга объявила, что я стану Старшей. Меня готовили к этому. У меня были лучшие преподаватели, собственная мастерская, доступ в семейные архивы, занятия с профессорами университета и даже возможность съездить на острова и провести ночь у источника, в темноте, среди баюкающих песен чёрной воды. Страшно представить, сколько всё это стоило: я видела кое-какие счета и мечтала их забыть.
И, конечно, мне много чему предстоит научиться; я всё ещё была в Конклаве той ещё зелёной соплёй. Но однажды я стану лучшей Старшей, какую знал остров Бишиг; я приведу нас к порядку, процветанию и ясности, я создам будущее, в котором у каждого жителя острова будет место, средства и возможности для достойной жизни.
Ёши слушал меня, чуть склонив голову, и спросил:
— Ты этого хочешь?
И я должна была сказать, будто моя цель — это то, ради чего я просыпаюсь по утрам, и каждую секунду я полна мыслями об острове и моих людях, и каждый новый шаг делает меня счастливее.
Но я смотрела в его лицо, и видела в глазах напротив отражение звёзд, а под ними — что-то внимательное и печальное, и я сказала:
— Я ничего не хочу.
Я не знаю, когда это случилось.
Я любила свою работу, любила своё дело, любила горгулий, в конце концов, любила свой Род, — но в какой-то момент это как будто… перестало быть важным. Что-то внутри погасло, и осталась инерция, и она катила меня, тянула, несла вперёд.
Я справлялась. Я всегда, по правде говоря, справлялась. Я умела заставить себя сделать всё необходимое, и нет, я не была несчастна, я не наматывала сопли на кулак, не страдала, не ныла и не жаловалась. А что всё, кроме необходимого, меркло — так когда этого «всего» было хоть сколько-нибудь много?
Где-то там, впереди, было хорошее: что-то другое, манящее и замечательное. Когда-нибудь я окажусь там, и у меня появится… что-нибудь. Не знаю, что. Я забыла, что.
— Я никогда не была в отпуске, — шёпотом сказала я и закурила.
Ёши не перебивал, — он вообще умел не столько даже слушать, сколько не мешать говорить.
— Я никогда не была в отпуске, и это надо говорить с гордостью. Я хороша. Я незаменима.
А ещё я всегда рано встаю, у меня в идеальном состоянии картотека и все счета, я в отличных отношениях со своими предками, я знаю всё или почти всё о состоянии островного хозяйства, я бегаю дважды в неделю, вне зависимости от погодных условий, а ещё правильно питаюсь — строго по дневнику с расчётом калорий, который я веду уже третий год, с того самого неприятного ноября, когда я почему-то бесконечно падала в обмороки. Словом, я молодец, и у меня замечательная жизнь.
Но стоило вдруг выйти замуж, как выяснилось, что меня достаточно поманить капелькой тепла и ничего не значащим разговором о звёздах, чтобы всё это стало пустым, душным дымом, в котором гаснут звуки.
Он спросил меня — чего я хочу. Ещё тогда, после праздника, когда я помирала от температуры и ненавидела всё живое. Это было две недели назад, и две недели вопрос крутился у меня в голове назойливо гудящей мерзкой мухой. Я гоняла её туда-сюда, она жужжала всё громче, я пыталась пристукнуть её полотенцем, муха металась и гулко билась об стенки черепа, а ответа всё не было.
И вчера я сказала: ничего.
Я просто ничего не хочу. Я разучилась. Я так много хотела вещей, которые нужно было отложить, запинать под кровать, утрамбовать и, желательно, забыть, — что больше не хочу хотеть.
Почему-то это было ужасно стыдно.
И вот сегодня, поймав себя на дурацкой, беспричинной ревности к людям, которых я видела всего-то второй раз в жизни и которые решительно ни в чём не были передо мной виноваты, я вдруг поняла, почему.
Потому что каких-то вещей мне всё-таки хотелось. Например, чтобы бабушка обняла меня так, как она обнимала сегодня Метте, а та, дурочка, отбивалась и уворачивалась. Или уткнуться, как Ханне, в пропахшее целительскими чарами цветочное платье, зарыться носом в пышный воротник и стоять так. Или спрятаться за широкую спину отца, которого никто не гонит из колдунов, как позорную собаку, и которого не приходится потом сперва опознавать в плохо сохранном трупе, а потом — хоронить в каменном скворечнике вдали от родового склепа.
Или иметь право, как Ливи, смертельно обидеться на маму и никогда больше ей не звонить.
В общем, мне хотелось разных глупостей. И нужно было, как всегда, взять себя в руки и справиться, — потому что уж что-что, а справляться я всегда умела, — но одна эта мысль вызывала, как выдуманная беременность, мерзкую тошноту.
Медлительный голем выключил наконец горелку и принялся механически расставлять креманки по подносу. Крем-брюле призывно мерцало плотной карамельной корочкой. Из коридора доносились неразборчивые голоса и чей-то смех; задерживаться на кухне больше не было оправданий, и я, покривлявшись в зеркальную поверхность начищенного металлического полотна над кухонными столами, натянула на лицо гостеприимную улыбку.