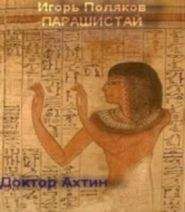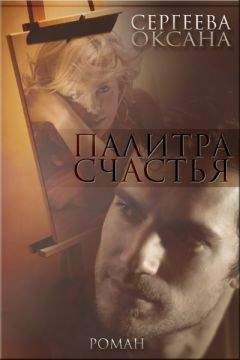Ознакомительная версия.
Я откладываю рисунок в сторону и иду к окну. Фонарь, освещающий улицу под моим окном, дает достаточно света, чтобы я мог смотреть из темноты своей комнаты на людей, которые, как тени, скользят в заоконном пространстве.
Нужен ли я им? Или может им достаточно того Бога, которого предлагает церковь?
Я задаю себе вопросы, думая, как новый мессия, пришедший в этот мир. И эта роль мне постепенно начинает нравиться.
Что ж, если я Бог, то прими меня, человек, таким, какой я есть.
Или отвергни, бросив камень в моё ничем незащищенное тело.
В 302-ой палате тишина. Мужчины ушли на завтрак, оставив Шейкина одного. Я подхожу к нему и здороваюсь.
— Доброе утро, доктор, — отвечает пациент.
— Как вы? — спрашиваю я, хотя и так видно, что плохо. За прошедшую ночь жидкости в животе стало еще больше, и теперь больной походит на воздушный шарик, который вот-вот взлетит.
— Я всю ночь лежал и думал, — говорит Шейкин, — и умирать не хочу, и так жить, тоже не желаю. Если год назад у меня еще была надежда на то, что я поправлюсь, то теперь я точно знаю, что моё время подходит.
Он смотрит мне в глаза и трагическим голосом говорит:
— Как это страшно, Михаил Борисович!
— Страшно умирать? — уточняю я.
— Да. Я и уснуть ночью не могу, потому что боюсь, что не проснусь.
Я сажусь на край кровати Шейкина и, глядя в его влажные глаза, разделяя слова, спрашиваю:
— А что конкретно вас страшит — неизвестность по ту сторону бытия или то, что вы оставите этот мир?
Мужчина часто моргает, словно борется со слезами, и отвечает утвердительно на альтернативный вопрос:
— Именно так. Я не знаю, что там будет. Здесь меня уже ничего не держит, и я легко оставлю это, — он неопределенно машет рукой, — а вот что там. А что если церковь права и ад существует. Я ведь прожил жизнь так, что мое место только там.
— Я вам скажу по секрету, — говорю я шепотом, склонившись ближе к Шейкину, и пристально глядя в глаза, — нет никакого чистилища, выдумки все это. Там, по ту сторону, бескрайние Тростниковые Поля, в которых пребывают все, кто ушел отсюда. Они ни в чем не нуждаются, они не знают горя и печали, они счастливы настолько, насколько может быть счастлив человек, получивший абсолютно все, что желал в своей жизни. Они живут там припеваючи, пребывая в вечном покое, ничего не боясь и ни о чем не беспокоясь. Там — все просто и прекрасно.
Я отодвигаюсь от пациента и нормальным голосом заканчиваю:
— Страшно жить в этом мире, а уходить из него — это радость, потому что всех нас ждут счастливые Тростниковые Поля.
Я ухожу из палаты, оставив плачущего пациента в одиночестве.
В ординаторской Лариса, увидев меня, спрашивает:
— Михаил Борисович, вы не знаете, Вера Александровна пришла? Уже полдесятого, а её одежды и сумки нет.
Я, пожав плечами, мотаю головой:
— Я её сегодня еще не видел.
— Странно, она, как правило, не опаздывает.
Лариса уходит из ординаторской, а я думаю о женщине, которую сейчас реанимобиль везет к нам в больницу.
В 301-ой палате, куда я иду, новая пациентка. Поздоровавшись с женщинами, я сажусь на стул рядом с её кроватью. Больная Алтишевских, тридцать восемь лет.
Я просматриваю записи доктора в приемном отделении и спрашиваю:
— На что жалуйтесь, Алевтина Афанасьевна?
Женщина перемещает свое тело из лежачего положения в сидячее и начинает подробно говорить о том, что все началось год назад, после того, как она тяжело переболела гриппом и с тех пор у неё все плохо. Она, эмоционально жестикулируя и показывая на свои части тела, рассказывает о практически постоянных болях в разных местах от головы, где боли есть всегда, до ног, где боли зависят от погоды. О болях в суставах, которые так раздражают её, потому что ей тяжело ходить. О болях в сердце, когда оно неожиданно начинает быстро и часто биться, и она чувствует страх, что сердце сейчас выскочит из груди, и она умрет. Она подробно рассказывает о том, что стала плохо переносить жару, и теперь жаркое лето для неё — это непреходящий ужас, когда она почти постоянно потная, липкая и противная.
Я вижу на лице женщины всю ту гамму чувству, которые она испытывает, когда ощущает себя липкой и противной. На её лице и шее появляются красные пятна, а пальцы рук начинают мелко дрожать.
— Не волнуйтесь, Алевтина Афанасьевна, я понимаю, о чем вы говорите, — говорю я, пытаясь успокоить женщину.
Она, словно не слыша меня, все больше и больше погружаясь в свою болезнь, продолжает рассказывать о том, что ей стало тяжело подниматься на третий этаж, потому что она задыхается, и порой она чувствует, что не может вздохнуть, будто забыла, как это делается. Она хочет продемонстрировать, как это бывает, и очень образно показывает судорожные вдохи. Её лицо еще больше краснеет, в глазах появляется страх, она начинает махать руками, словно она действительно забыла, как дышать.
Я, отложив историю болезни в сторону, резко хлопаю в ладони перед её лицом, и — она делает нормальный глубокий вдох и расслабляется.
— Алевтина Афанасьевна, а вы к психиатру не обращались? — спрашиваю я.
Она округляет глаза и возмущенно говорит:
— Вы что, доктор, считайте, что я психованная?
— Нет, я вовсе этого не говорил, — отвечаю я, — но, мне кажется, помощь этого специалиста вам бы не помешала.
И, чтобы прервать её возможное мнение по этому поводу, я спрашиваю:
— У вас, Алевтина Афанасьевна, обмороки бывают?
Женщина, переключив свой мыслительный процесс на новый вопрос, спокойно вздохнула и стала говорить о том, что нечасто и в душном помещении у неё бывают обмороки, когда она вдруг на мгновение теряет себя, а, очнувшись, чувствует головокружение.
Приблизив лицо ко мне, и понизив голос, она говорит:
— А еще у меня были судороги. Всего несколько раз, но я это запомнила. Один раз после обморока, когда я упала в кресло, и у меня затряслись ноги и руки так, что я растерялась — никогда у меня такого не было. Потом еще в огороде, когда я упала в грядку с морковкой и вся испачкалась в грязи.
Я, кивнув, отодвигаюсь от неё и встаю.
— В общем, все понятно, Алевтина Афанасьевна? Будем обследоваться и лечиться.
Я выхожу из палаты и думаю, что первым, кого я позову на консультацию, будет психиатр.
В ординаторской сидит Лариса.
— Я начинаю беспокоиться, — говорит она, — Вера Александровна не отвечает на мобильный телефон.
Сев за свой стол, я пишу историю болезни.
— Михаил Борисович, почему вы так спокойны, неужели вам все равно, что ваш коллега отсутствует? — возмущенно говорит она.
Ознакомительная версия.