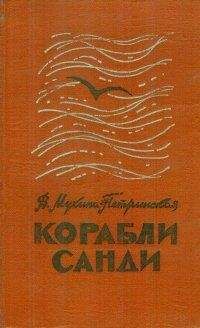В нашем крыле свет ещё горел. Я постояла немного у двери, оглаживая пальцами дерево, а потом мягко нажала на ручку.
Я не угадала: мастерская была пуста и темна. Под смежной дверью полоска света, и я долго гипнотизировала её взглядом, прежде чем разово стукнуть в дверь и войти.
Ёши сидел за столом в домашнем мягком халате и что-то писал; когда я вошла, он дёрнулся и смахнул бумаги — они разлетелись по полу.
— Пенелопа?
Я неловко пожала плечами, подняла прибившиеся к моим ногам листы — это были какие-то архитектурные планы — и протянула их Ёши.
— Что-то случилось?
Я поджала губы и покачала головой. Помялась немного на месте. Ёши так и сидел за столом на стуле-вертушке, только повернулся ко мне и смотрел удивлённо и чуть нахмурившись. Документы он небрежно бросил в ящик стола.
Всё это было ужасно унизительно. Всё было отвратительно с самого начала, но тогда я стискивала зубы и старалась не замечать этого, заперев бессильную злость за этикетом и ответственностью. А теперь всё перегорело, погасло, и осталась только серая маркая пыль, сосущая пустота и запах ржавчины.
— Пенелопа? Ты хотела что-то…
— Я просто подумала, — перебила его я, вдруг собравшись с мыслями. — Ты не хочешь… не знаю… чего-нибудь?
— Чего?
— Я могу сделать чаю.
Ёши смотрел на меня, нахмурившись. Где-то у него за лбом, кажется, скрежетали шестерёночки, и они явно не справлялись с нагрузкой.
— Или… у меня есть пластинки с радиоспектаклями. Или расскажи про лунных. Или, хочешь, займёмся сексом?
Шестерёнки заело, а пружинка с протяжным свистом выстрелила вверх и запрыгала по полу, звеня. Ёши с усилием потёр пальцами лоб, промассировал виски и, кажется, едва слышно выругался.
Прямо скажем, он не был похож на человека, желающего немедленно слиться со мной в экстазе. Строго говоря, я вообще не была уверена, что после нашей восхитительной постельной премьеры он когда-нибудь захочет со мной спать, но в моменте я почему-то забыла об этом подумать; а теперь, вспомнив, залилась краской:
— То есть… в смысле… если ты меня не хочешь, то…
Ёши прикрыл глаза и, кажется, мысленно досчитал до пяти. Жар, в который меня бросило, сменился холодными колкими мурашками. Я жалела обо всём сразу и хотела то ли раствориться в Бездне, то ли сесть на пол и позорно разреветься.
Он пригласил меня в планетарий — и не пришёл. Не извинился толком, не объяснился, не попытался как-то сгладить; я должна бы, наверное, уехать к подружке, обзывать его козлом и сцеживать яд в бутылочку.
Но яда не было. И сложно было придумать вещи, которые порадуют сейчас Лиру меньше моих соплей по поводу личной жизни. И что-то во мне — пустое, звенящее, — не придумало ничего умнее, чем заявиться в комнаты Ёши без приглашения, предложить глупости и стоять, медленно бледнея и ощущая почти физически, как всё становится только хуже.
Умру старой девой, запоздало обругала себя я. И почти успела сбежать, треснув дверью, куда-нибудь в промозглые старые башни, где можно будет забиться в угол и впасть в спасительную кататонию, — но Ёши всё-таки отмер, встал, приобнял за плечи и уткнул носом в мягкие воротники халатов.
Несколько мгновений я тупо смотрела в вафельную ткань, — она была так близко, что глаза никак не могли на ней сфокусироваться. Затем вяло шевелилась, пытаясь то ли принять пристойный вид, то ли хотя бы сделать так, чтобы сплющенный нос мог дышать. Ещё какое-то время моргала, вслушиваясь в гулкое биение сердца и тишину ночного дома, пытаясь придумать какую-нибудь едкую, злую глупость, которую можно будет ляпнуть и уйти, задрав нос.
А потом поняла, что плачу. Слёзы бежали сами собой, непрошеные, жидкие; они катились по щекам, впитывались в халат, размазывались по лицу. Нос заложило, губы скривило, и я кусала их резко, до боли и почти до крови, чтобы не всхлипнуть и не скатиться в позорную истерику.
Ёши терпел это по-рыцарски, то есть молча. Затвердел, обнимал меня каменными руками, холодно и исключительно прилично. Упёрся подбородком мне в макушку. А когда слёзы всё-таки кончились, выпустил, достал из комода носовой платок, подал его мне, — и вежливо смотрел в черноту за окном, пока я кое-как приводила себя в порядок.
И сказал, всё так же не оборачиваясь:
— Тебе лучше бы держаться от меня подальше.
Я нахмурилась и вытерла глаза рукавом.
— Ты мой муж, между прочим. Это накладывает определённые…
— Похер.
Это был, кажется, первый раз, когда он при меня ругался, и от этого я растерялась.
— В каком смысле — подальше?
Он пожал плечами.
— Займись своими делами. Что там делает Старшая Бишиг? Крыша протекает. Шницели ваши говно. Тебе не заказали ещё каких-нибудь там бронированных авто с огромной пушкой? Сделай сама, заранее, продашь на аукционе. В конце концов, будет война.
— Но…
— И заведи любовника, — припечатал муж, всё так же глядя мимо меня. — «Репродуктивной необходимости», как можно заметить, не наблюдается.
— Ты же не подписал, — растерянно прошептала я. — Ты же всё равно не подписал.
— Пришлю завтра через поверенного.
Хуже было уже некуда, и я спросила прямо:
— Ты меня не хочешь? Из-за сисек?
Он уткнулся лбом в оконное стекло.
— Уйди отсюда.
Плакать надо было бы сейчас, но слёз теперь не было. Мир вокруг протяжно звенел и раскачивался, кренясь, раскалываясь, сходя с невидимой точки опоры. Казалось, я оглянусь, а двери нет, она разломилась надвое, как надгробная плита, осыпалась крошкой, а за ней только марево Бездны.
Я отступала, не оборачиваясь, и всё думала: это какая-то дурацкая шутка. Ведь было… неплохо. Всё это было… на что-то похоже. Я не навязывалась больше необходимого, я ничего не просила. Он сам потащил меня на этот дурацкий концерт, и держал меня за руку, и про звёзды рассказывал сам, и тогда, у рояля, я не заставляла меня целовать, я ничего из этого не…
Это что же — из-за этой девицы? Увидел её мамбаблю и просветлился, всё осознал и укатит теперь обратно в друзы, целовать ладони своей прекрасной Сонали, и рисовать будет снова одну только её, а потом смотреть, как она разрывает на клочки его рисунки?
Почему-то именно это задевало меня больше всего. Я стиснула зубы, а потом усилием расслабила челюсть. И заставила себя нашарить за спиной дверную ручку.
— Извини, — тихо сказал Ёши. Рассыпавшиеся по плечам волосы скрывали от меня его лицо. — Надо было сказать сразу. И тащить в постель тоже было не надо.
— А женился ты, надо думать, так чисто, чтобы было?
— Уходи.
И я, конечно, ушла. Что толку доказывать что-то человеку, которому ты не нужна?
Мои комнаты дышали тоской. Я стояла у дверей мучительно долго, но так и решилась зайти. А в общей спальне было гулко и холодно, и в ванне здесь больше не сидели зайцы — делись куда, быть может, сбежали; шест для стриптиза матово поблёскивал в темноте; балдахин оттенял голый матрас, — я не велела теперь стелить здесь простыни.
Села. Попружинила немного. Подушки остались только дурацкие, длинные и напоминающие по форме сардельки, одеяла не было тоже, и я натянула на себя огромное полотно блестящего, холодного к телу покрывала.
Закуталась. Сбросила домашние туфли, подтянула к себе ноги, свернулась клубком.
У нас и не могло бы получиться ничего хорошего, не так ли? Хорошее не начинается вот так, хорошее так не выглядит, хорошего — не бывает. По крайней мере, похоже, не со мной. Вот и лежи теперь одна, на огромной кровати, в тишине, и придумывай себе всякие глупости.
Что, может быть, кто-нибудь придёт.
Или по крайней мере приснится.
l
Конечно же, я проснулась одна.
К утру моя ночная лиричность ссохлась, сжалась в неприятный хрусткий комок. Я облилась холодной водой, покормила горгулий, вернулась в кабинет посмотреть бумаги, — и с удивлением обнаружила среди писем рисунки.
Их было много, полных четыре листа бережно вырезанных из блокнота зарисовок, наклеенных потом на фактурный серо-зелёный картон. На всех них была, должно быть, я — но это сложно было утверждать со всей определённостью, поскольку в рисунках я была запечатлена фрагментарно: вот прикушенная губа; вот сплетённые пальцы; вот изгиб спины — это я тянусь за чем-то; вот хитрый взгляд куда-то в сторону, полускрытый тенью… Пожалуй, в этом даже была какая-то эротика, — очень странная, потому что собственно голой натуры здесь не наблюдалось. И моменты все были хоть и двусмысленные, но всё же не так уж и ярко подсвеченные сексуальностью.