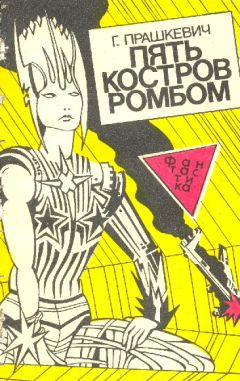Кнайб не лгал, говоря, что он лучший пилот Тании. Он не лгал, говоря, что справится с любым заданием. В такие времена — и Анхела знала это — только Кнайб мог решиться пересечь на самолете закрытую границу. И, понимая это, Кнайб пил скотч, красиво говорил о неподкупности неба, вспоминал знаменитых пилотов, нашептывал комплименты. Но Анхела видела — в черных подвалах его подсознания, как черви, копошатся унижающие ее, Анхелу, мысли. Улыбаясь, потягивая скотч, ничем не выдавая себя, Кнайб думал о ней мерзко и был счастлив от того, что люди еще не научились читать мысли…
А оружие? — спросила себя Анхела. Как в самолет Кнайба попало оружие? Неужели она все-таки недооценила Кнайба? Неужели при всей его низменности он работал на либертозо?
Нет! Кнайб был жаден, испорчен, груб. Кнайб не мог работать на либертозо. Таких, как Кнайб, можно только купить.
Значит, либертозо купили Кнайба. Он решил подработать и на этих отверженных… В каких нищих карманах звенели собранные для него медяки? И почему, если либертозо нужны были деньги, Хосеф Кайо никогда не обращался к ней, к Анхеле?
Хосеф боялся, — с острой жалостью решила она. Он боялся потянуть за собой меня. С тех пор, как я отказалась стать его женой, он ни разу не посетил виллу “Урук”. Но он и не забыл обо мне, он любил меня и издали и постоянно следил за всем, что я делаю…
Ангела вновь взглянула на журналиста.
Я пришла в “камеру разговоров” за спрайсом. Я не думала, что они схватят Кайо. Мои планы нарушены.
Анхела боялась, что уже не сможет спасти журналиста. Боялась, что ей не хватит времени. Два дня назад ее браслет — спрайс — начал светиться. Это значило — ее ждали, ей следовало уходить.
Сколько лет я веду эту игру? Почти семнадцать!
И ни разу ни соблазн, ни трагедия не вырвали меня из привычного круга — политики, ученые, бизнесмены… Я и Кайо оттолкнула от себя по той же причине — он хотел вырвать меня из этого круга. Но круг был очерчен не мной!
А если бы это я лежала на “Лоре”? — неожиданно подумала Анхела. Если бы не у Кайо, а у меня болело плечо и резко, страшно ударяло под лопатку задыхающееся сердце? Если бы не он, а я все силы направляла сейчас на то, чтобы затаить, убить, спрятать в плавящемся от боли мозгу единственную, но такую важную фразу: “Запад Абу… пять костров ромбом… одиннадцатого… пятнадцатого… двадцать второго…”? Смогла бы я поднять руку на человека?
Нет, сказала себе Анхела.
Поднять руку на человека может только человек!
— Вам жаль туземца? — негромко спросил Досет.
— Да.
— Почему же вы ему не поможете? Достаточно ответить на мои вопросы, и мы отправим туземца в госпиталь.
Это была ложь. Анхела зажмурилась и покачала головой.
Досет в упор взглянул на дочь Ауса. Он был убежден — она заговорит!.. В Кайо Досет не верил — либертозо бесчувственны. Их можно только уничтожать… Но Анхела… Когда Кайо завопит, когда электрический ток начнет выламывать его кости, когда из прокушенных губ хлынет кровь, Анхела заговорит.
А пока… Чувствуя, что все идет, как надо, Досет приказал:
— Приведите Этуша!
Это был его резерв. Он, Досет, не собирался бросать в огонь самое необходимое. Он верил — это дело можно провести малой кровью.
Подумав так, Досет улыбнулся. Сухой, мертвой улыбкой, едва раздвинувшей его тонкие, бесцветные губы.
Этуша втолкнули в “камеру разговоров”.
— Почему ты отказался писать эту женщину? — грубо спросил Досет.
Этуш вздрогнул. Он боялся смотреть на Анхелу, он отворачивался от “Лоры”. С унизительным страхом, с низкой мольбой Этуш смотрел только на Досета.
— Эта женщина не для моей кисти, — жалко выдавил он. — Я не умею писать святых!
— И все-таки ты ее напишешь! — заявил Досет.
— Нет! — затравленно возразил Этуш. — Я рисую только преступников!
— Дуайт, воротник!
Легко замкнув распухшие, но слабые руки художника в металлические наручники, Дуайт приказал:
— Ложись!
Только теперь Анхела уяснила назначение металлического кольца, ввернутого в пол камеры. К этому кольцу Дуайт быстро и деловито привязал грузно опустившегося на колени художника. Так же быстро и деловито Дуайт затянул на шее Этуша мятую сыромятную петлю — “воротник”. Тепловой луч мощного рефлектора, подвешенного в стене, ударил в шею Этуша, и художник, по-птичьи замерев, обессиленно прикрыл выпуклые глаза желтоватыми пленками почти прозрачных век.
— Сейчас одиннадцать… — заговорил Досет. — К двум часам ночи я должен знать — где, кто и на какие деньги покупает оружие для либертозо? Кто и через какие порты ввозит его в Танию? Когда и в каком месте должны приземлиться самолеты с остальным оружием?.. Отвечать может любой: и туземец, — он кивнул в сторону Кайо, — и вы, Анхела. Тот, кто заговорит первым, будет отпущен. Ну, а если никто не заговорит, я по очереди убью Этуша и туземца, и кровь этих людей ляжет на вас, Анхела.
— Но если мне нечего сказать — наивно удивилась Анхела.
И Досет почувствовал бешенство.
Вскочив, он одним шагом преодолел пространство, отделявшее его от Анхелы. Ударившись бедром о край стола, хищно и мягко наклонился над женщиной, так странно пахнущей травами и цветами, и рванул на себя руану.
Тонкий шелк лопнул. Накидка сползла с голого плеча Анхелы. Будто защищаясь, дочь Ауса вскинула руку, и на ее тонком запястье холодно блеснул браслет — точная копия того, что лежал на столе майора.
Мгновение Досет боролся с неодолимым желанием — ударить Анхелу. Но — браслет!
Не глядя на поджавшего губы Дуайта, на каменно застывшего у дверей Чолло, на сжавшегося Этуша, наконец, на руану, упавшую на пол, майор вернулся на место. Сел. Потянулся к скотчу. Но выпить помешал Этуш — сыромятная петля, быстро высыхая, сдавила его рыхлую шею. Художник захрипел.
— Хочешь рисовать? — мрачно спросил майор.
Этуш согласно и страшно задергался.
— Принесите кисти, картон! — приказал Досет. — Дуайт, сними с него воротник! — И добавил, обращаясь уже к Этушу. — Рисуй внимательно! И не подходи к столу, от тебя дурно пахнет!
— Руки дрожат, — прохрипел Этуш. — Дайте мне скотча!
— Займись делом. Ты получишь свой скотч, но позже…
Досет хлебнул прямо из бутылки.
Браслеты, поставившие его в тупик, вполне могли служить паролями!