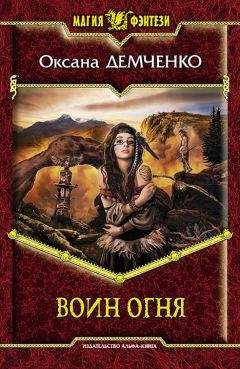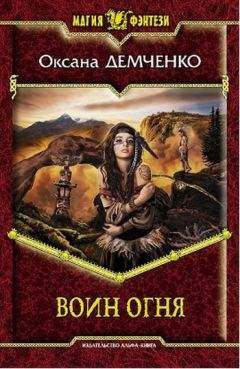Ознакомительная версия.
Лаура упрямо тащила вперед, и махиг был ей благодарен за это усердие, позволяющее расстаться с испоганенной мечтой как можно скорее. Совсем не трудно было и кашлять, и гнуться, и молчать… Обещанной кареты на площади не оказалось, но зато площадь была самым высоким, наверное, местом в городе, поэтому несколько более чистым. Ее, возможно, мыли: не видно пыли и грязи на мостовой. Ичивари вздохнул с некоторым облегчением – и снова нырнул в тесноту гнилых темных улочек. Спуск сделался заметным, даже довольно крутым, и махиг понадеялся, что скоро увидит ворота, позволяющие выбраться из каменной ловушки на свободу. Лаура дернула за пояс, уговаривая ненадолго остановиться. Осмотрела желоб, посопела, пристраиваясь, подобрала подол, уселась… и по желобу зажурчало. Ичивари прикрыл глаза, отказываясь принимать то, что уже не мог отрицать. Город бледных набит нечистотами. И люди в нем ничем не отличаются от собак. Они все – с поджатыми хвостами, гноящимися глазами и заранее сгорбленной, ждущей кнута спиной.
Дальше махиг шел на деревянных ногах, не запоминая дорогу. В голове, гулкой, как орех, сухим ядрышком билась одна мысль: «Почему монетки собирают на входе? И зачем люди платят за право войти?» Он бы все отдал, чтобы, наоборот, это место покинуть, никогда больше не видеть и вытравить из памяти. Лаура его тормошила, что-то спрашивала, он кивал и кашлял. Отдал безропотно монеты, весь узелок – пусть делает что хочет. И пошел дальше, прямо. На запад. Уже по каменной дороге, хотя теперь и вне стен запах мира казался иным. Оскверненным. Участь здешнего бога выглядела плачевно. Ведь все храмы, или почти все, стоят в городах! Словно нарочно упрятаны в недрах чудовищного скопления нечистот тела и духа. Зачем там нужны молитвы? Зачем песнопения? Соразмерность двух граней мира – явленной и неявленной – создает висари, но как установить эту соразмерность, если духи не слышат отравленных гнилью людей, даже если желают принять и исполнить их молитвы?
Очнуться по-настоящему позволила лишь острая боль в ноге. Ичивари вздрогнул и огляделся. Опушка леса? Город так далеко позади, что его уже и не видно, только темное пятно в силе асхи осталось и оно ощущается… Махиг потер ногу и вопросительно глянул на Лауру, бурно дышащую, стирающую пот и всхлипывающую. С палкой в руке – это, значит, она ударила.
– Прости. Мне было плохо.
– Я жратву купила, я тащила, я бежала, а ты даже не оглянулся, каналья! – визгливо и жалобно запричитала арпа. – Куда ты прешь, там лес! Вечером нельзя в лес! Понимаешь? Он для охоты донов, застанут – убьют, а не застанут, так нас разбойники зарежут!
– Да видел я здешних разбойников, – отмахнулся Ичивари. – Было бы на кого глядеть. Идем, мне в лесу спокойнее. Найдем речку, я знаю, там впереди есть вода. Надо вымыться после города.
– Ты чё, двинутый на мытье? Да я в этот год уже мылась, весной, ны… Плохой лес, я от… ну неважно, плохо тут – и все! Один старый хлаф болтал, что тут большая шайка. Что они даже на кареты нападают. И что лачуга у них возле озера. Костес, я умоляю, я на колени… не надо, не пойдем, ны-ы…
– «Ны-ы», – передразнил Ичивари. – Лаура, все будет хорошо. Еще никогда мне не было худо в лесу. Поле куда противнее, голое оно, нас издали видно.
Арпа нехотя кивнула и указала рукой на мешок, осознавая бесполезность спора. Ичивари подхватил, удивился тяжести груза, вскинул на плечо и понес. Лес был сух, лес просил дождя и жалобно шелестел, скорее даже гремел лишенными влаги листьями. Трава поникла и пожухла. Но склон под ногами ощутимо горбился, затем переломился и струйки звериных и человечьих тропинок заскользили прихотливым неровным курсом к воде. Запахло влагой – живой, настоящей, родной. В густых сумерках Ичивари уложил мешок на выбранной крохотной полянке, стянул рубаху и пошел к воде.
– Сиди тут, огонь не разводи и не шуми, – едва слышно велел он спутнице, добывая из своих вещей нож. – Я слышал людей и коней. Там, далеко. Проверю и вернусь.
Глаза Лауры были двумя черными озерами страха, она кивнула и прикусила пальцы поднятой к лицу руки. Задышала часто, свернулась клубком у мешка и вцепилась в него, то ли оберегая, то ли просто прижимаясь к привычному…
Махиг за кустом сбросил и штаны, оставшись в одной набедренной повязке, и заскользил вдоль реки, радуясь праву и возможности быть собой, человеком леса и даже дикарем. Поглядев на то, что бледные называют цивилизацией, он уже не находил ничего зазорного и обидного в таком определении. Да, он дикий, он любому лесу не чужой, и поэтому ни один бледный тут ему не соперник… Ичивари задумчиво шевельнул бровью. А ведь точно: тут не один бледный поблизости. На дальнем берегу реки у каменной дороги – целая шайка лихих людей. Переплыв неширокий поток, махиг выбрался на склон и стал учитывать разбойников. Трое у дороги с одной стороны, столько же с другой, еще двое на дереве, с луками, и дальше трое, у всех пистоли. В лощине переступают кони, с ними оставлен слуга. Махиг недоуменно оглянулся на реку. Идти назад? Так ведь этим людям, мало знакомым с лесом, долго в засаде не просидеть. Значит, те, кого ждут, вот-вот появятся.
Еще в городе Ичивари пообещал себе не лезть больше в дела бледных, слишком чужие эти дела и непонятные, почти всегда похожие на ловушки и обманки. Но речь идет о жизни и смерти. Отвернуться тоже никак не получится.
Покосившись в сторону обладателей пистолей, махиг осторожно попросил асхи о малой помощи. Порох на полке часто отсыревает, так что осечка – вопрос случая… почти. Туман у реки вроде стал попрохладнее. Ичивари вплотную подобрался к затаившимся противникам у самой обочины. Замер, слился с ночью и превратился в слух. Над бледными роилась мошкара, и эту особенность людей моря махиги заметили давно: чужих лесу почему-то жестоко жалят. Лишенные полноты правой души возвращаются с самой безобидной малой прогулки опухшими и больными, они опасаются змей, и, вот ведь странно, змеи ощущают таких, злятся и норовят укусить. Люди в засаде шипели, вздыхали, иногда звучно шлепали себя по щекам и рукам. То есть ловили людей своего же круга – слепых и глухих в лесу. Прошел час, Ичивари почти решил для себя, что ожидание затянулось и угрозы для припозднившихся путников нет. Все бледные знают дурную славу леса, если даже Лауре она известна. Не поехали на ночь глядя, вот и все…
Стук подкованных копыт донесся издали, вспугнул и прогнал размышления. Скоро шум разобрали и разбойники, зашевелились, проверяя в последний раз оружие и убеждаясь, что никто не спит, даже пошептались, окликая друг друга. И затихли. Звук копыт приближался, дополняемый перестуком колес. Первым показался верховой. Он скакал ровной рысью и вез довольно яркий фонарь, словно издеваясь над самим собой и намеренно себя же ослепляя. Как можно увидеть врага, если ты сам на свету и видишь лишь то, что попало в его тесный круг? Отставая от передового метров на десять, ехали еще двое, при саблях и пистолях. В десяти метрах за ними – еще двое. Махиг недоуменно пожал плечами: при таком соотношении количества людей он бы не счел успех засады очевидным… Неудивительно, что притаившиеся не шумят и просто пропускают всадников! Вот и карета. Запряжена четверкой коней! Ичивари сразу догадался – именно эту красивую повозку и назвала новым словом Лаура. То есть в книгах оно встречалось, но в памяти тогда не осело, слишком бесполезное, малопонятное.
Когда карета въехала на мост, обладатели пистолей попытались выстрелить, то есть щелкнули курками почти разом, но вышло три осечки… лучники спустили тетивы чуть позже, карета уже миновала мост, и кони теперь как раз двигались мимо засады, обе стрелы впились в шеи передовой пары лошадей, те захрипели, спотыкаясь и путаясь в упряжи. Взревел в голос рослый разбойник у самой обочины, поднимаясь и шагая к карете, которая в последний раз скрипнула колесами и замерла. Еще двое поймали под уздцы выживших коней. А охрана… Ичивари зло оскалился: всегда у бледных двойное дно, ну всегда! Охранники – и верховой с фонарем, и следующие за ним попарно четверо – продолжили скакать, даже не обернувшись. Еще двое верховых двигались за каретой, они резко осадили коней у моста, развернули – и удалились туда, откуда недавно явились… Стоящий у самой кареты человек звонко и демонстративно хлопнул в ладоши раз, еще и еще:
– Господа, нас не обманули, славно! Простая добыча, зато сколь занятная! – Он шагнул ближе к карете, почти скрывшись из поля зрения махига, хлопнул по лаковой стенке и хозяйски потянулся к дверце. – Когда я жил в столице, эта сакрийская бледа была горда и не приняла мои ухаживания. Напрасно.
Ичивари вздохнул и сердито качнул головой. Почему на нелепом берегу он постоянно ввязывается в чужие дела и так же неизбежно нарушает данное себе слово? Почему здесь ничто не решается логично, открыто и однозначно? Махиг сетовал на жизнь, между делом наблюдая за тем, как открывается дверца кареты, выходящая на дальнюю от него самого сторону дороги. Дверца еще не распахнулась полностью, когда Ичивари бережно, без звука, опустил в траву тело второго из лучников. Краем глаза отметил: обладатели пистолей перезаряжают оружие медленно, на них можно пока и не тратить время, поэтому он сразу шагнул ближе к обочине, за спину единственному мужчине, оставшемуся сторожить закрытую дверцу кареты: двое, прежде таившиеся рядом с ним, теперь держали коней. Ичивари уже был в полушаге от торопыги, тянущего саблю из ножен и нащупывающего край дверцы… Пальцы дернулись в конвульсии, когда махиг передавил слабую шею и с отвращением оттолкнул тело в кусты.
Ознакомительная версия.