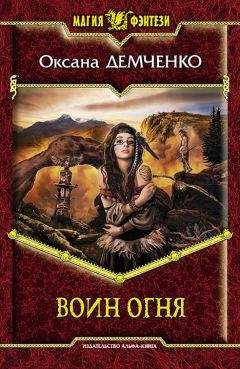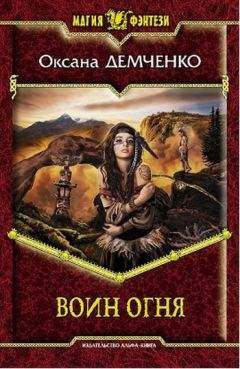Ознакомительная версия.
Ичивари хмыкнул, широким жестом начертил знак света и зашагал быстрее. Он не ощущал после посещения деревни ничего, кроме гадливости и желания отмыться. По отношению к девчонке испытывал некоторое смутное и малопонятное раздражение. Слишком она липла к боку и норовила иногда погладить по руке, да и в глаза глядела как-то… нечисто.
– Ты хочешь стать гратио или уйдешь в закрытую обитель? – Лаура решила вслух уточнить важное для себя.
– Я иду к пещерам. Пока это все. У меня плохо с памятью, и я надеюсь на чудо.
– Ны-ы, то есть ты не чернорукавник, – обрадовалась попутчица и еще плотнее прильнула к боку. – Это хорошо.
– Я тебе куклу сделаю, – серьезно пообещал Ичивари, за шиворот оттягивая подальше в сторону липкую – прав был тот парень! – девчонку. – Тебе сколько лет?
– Почти пятнадцать, – заулыбалась Лаура, старательно показывая зубы, довольно ровные и всего с одной дыркой на месте выбитого или вырванного.
– Вот и играй с куклами, а меня не трожь, ясно? Не то выломаю прут и отхожу по заду так, что хвост отвалится.
– Тоже мне святой… У меня нет хвоста! – со слезами в голосе закричала Лаура и даже попыталась задрать подол. – Я не арпа, я обычная, почему все сразу пальцем тычут?
– Обычная? Так и веди себя обычно, без липкости! – во весь дух рявкнул махиг, с криком выпуская злость. Тише добавил: – Иди вон обочиной и гляди на цветочки. Ясно?
Лаура шмыгнула носом, кивнула, пощупала разбитую губу и молча зашагала по обочине, сутулясь и глядя под ноги.
На душе сделалось совсем гадко. Босая, грязная, волосы колтуном, всхлипывает… Ничей ребенок из мертвого мира, где все безразличны всем. Ичивари задумчиво повел плечами. Дома, на зеленом берегу, нет сирот. Если папа и мама погибли на войне, найдется дальняя родня. Не уцелели и эти – так вождь-то разве ослеп и оглох? Он подберет ребенку семью и еще не раз наведается, убеждаясь, что приняли дитя хорошо и еды хватает, что очаг горит жарко и душа семьи, хотя бы левая, малая, не холодна… Желая отвлечься от неприятных мыслей, махиг развязал мешок и порылся в нем, проверяя припас, выменянный на медяшку. Сухой старый сыр, еще одна веревка с гниловатым луком, несколько похожих на батар печеных корней, уже изрядно заветренных, хлеб в виде плоской длинной лепешки и сухая оболочка незнакомого плода, заполненная кислым молоком и заткнутая пробкой.
– Есть хочешь, Лаура?
– Да.
– Бери что нравится. Тебе куклу сплести наспех из соломы или вырезать настоящую, из дерева?
Девчонка вытащила из мешка сыр, жадно откусила большой кусок и вцепилась в лепешку. Довольно долго молчала, глотая и давясь от поспешности. Было видно: есть ей хочется сильно. Явно накопилась привычка недоедать, оборотная сторона которой – эта вот безобразная, неопрятная жадность. Даже не помолившись своим богам и не поблагодарив спутника, хватает еду грязными руками, облизывает пальцы, чавкает, рычит и сопит.
– Настоящую, – с новой, вдруг прорезавшейся нагловатой уверенностью заявила Лаура, дожевав остатки сыра.
– Мальчика или девочку? Волосы короткие или длинные? Лицо какое? Ростом кукла такая или побольше?
Лаура остановилась, долго недоуменно глядела на махига, потом покрутила пальцем у виска, совсем как лихой человек из ночного леса:
– Ны-ы, вот понять бы, тебя по голове…
– Дубинкой, – сразу подтвердил Ичивари. – Но я иду к пещерам и надеюсь на чудесное исцеление.
– Гы-гы, – невнятно и грубовато прыснула Лаура. – Так ты впрямь блаженный, понятно. Значит, как исцелишься, только тогда и полезешь под подолом хвост искать. Ны, ладно, делай куклу. Вот верно сказывал батюшка, чтоб ему подавиться, гниде: от плохих людей нет пользы, от хороших нет и удовольствия… сплошная морока.
Ичивари отвернулся, долго смотрел в поле, затем в высокое синее небо, такое настоящее, живое, родное… Он чувствовал себя одиноким и потерянным, не способным понять на этом берегу совсем ничего. Даже простого на первый взгляд. День уже разогрелся и горел в полную силу, солнце пекло, на дороге шумели, пыль стояла густо, забивая нос, вынуждая часто моргать и словно советуя выбрать тропку в стороне от главного пути. А потом и присесть на отдых у ручья, метрах в ста от дороги. Лаура использовала передышку, чтобы доесть остатки хлеба и погрызть лук. Она морщилась, всем видом выражая неудовольствие, но не превращая его в слова. Насытившись и напившись, странная попутчица вцепилась в пояс и спокойно заснула, надеясь, что так-то махиг не сможет незаметно уйти и бросить ее. Ичивари развязал пояс, потянулся, стащил рубаху и вымылся, щедро расплескивая воду. Стало лучше на душе, светлее. Когда руки замерзли в ручье, когда звук его журчания заполнил внимательный слух целиком, асхи откликнулся, порадовался живой душе и зажурчал веселее. Ичивари тоже улыбнулся, погладил воду, выгреб со дня родника мусор, освободил русло от гнилой пробки из веток и спутанной травы. Осмотрелся, выбрал сухую корягу для куклы. Достал нож и начал счищать остатки коры, мох, подгнившую древесину. Он срезал лишние сучья и для начала работы простругал фигуру грубо, приблизительно. День клонился к вечеру, работа спорилась, заботы нелепого мира бледных не донимали.
Пробуждение Лауры махиг смог заметить сразу. Она дернула к себе пояс, охнула и завыла тихо, как-то безнадежно и жалобно. В звуке быстро появились болезненные нотки, безумные и визгливые. Пришлось вскакивать на ноги, окликать и самому спешить к оставленной совсем рядом попутчице. Он утешающе погладил ее по голове, снова чувствуя себя виноватым.
– Что я буду делать, если ты меня бросишь, каналья? – Лаура повторяла это уже в десятый, наверное, раз, дергая за руку и продолжая подвывать от ужаса. – Кому я нужна? Замуж – так приданое надо, сваху, родню, толику света из храма. В таберну – и то плати, а чем мне платить-то? Ты какого нерха меня с места сдернул, ны? Ты во всем виноват!
– Нет. Ты сама выбрала. Держи куклу и думай, какое делать лицо. Пошли, хватит отдыхать.
– До города семь миль, вечер уже, куда пошли? – В голосе звенела упрямая злость.
Ичивари молча встал, вырвал из-под руки спутницы пояс, резко затянул, подхватил палку с мешком и зашагал прочь. Некоторое время он слышал вой и ругань, потом ноги споро зашлепали по траве. Лаура догнала, сопя и втягивая носом, вцепилась в пояс и молча пошла рядом, куклу тоже принесла. Держала грубо, за шею, словно намереваясь удушить.
– Тебя папаша-дон от табернской девки прижил? – то ли уточнила, то ли сама предложила надежное пояснение слишком взрослая девочка. – Ты слова говоришь чудно и не ругаешься. Спина у тебя прямая и нож дорогой. А, ну да, ты же головой нездоров… Так слушай меня, умную! На хлафа нам в город переться, ны? Ворота до заката закроют. Дошло?
– Заночуем у дороги.
– Холодно! Ты каналья!
– Иди к папаше, в его таберну, и ори там сколько пожелаешь. Спасать блед… то есть незнакомых вредно, я понял.
– Ты как меня хотел назвать? – тихо, едва слышно шепнула Лаура, делаясь совсем белой. – Ты… Да ты…
– Бледной хотел назвать. – Ичивари от недоумения повел плечами. – Нельзя?
– Ты не блаженный! – Лаура опять закричала в голос. – Ты кретин!
Она отвернулась и дальше пошла молча, чем сильно обрадовала спутника, утомленного непонятным шумом. В поздних сумерках стены города наконец-то обозначились впереди темным валом. Ичивари выбрал удобное место и устроил для Лауры ночлег. Набросал веток, расстелил мешок, даже пожертвовал свою рубаху на одеяло… Чем на сей раз осталась недовольна нелепая арпа – а в зловредности ее характера махиг уже не сомневался, – понять не удалось. Сердито шепча ругательства, девчонка завернулась в рубаху и заснула. Ичивари долго смотрел на звезды, каплями дождя севшие в узор ночной листвы. Он отдыхал от пыли и шума дороги бледных и думал: «Настоящий дождь не помешал бы». Земля здесь южная, благодатная, фермеры наверняка собирают по два урожая, второй еще не очень скоро. Колос сохнет, висари совсем плохо устроено, неправильное оно здесь. Может, леса мало? А может, злости в людях многовато…
Глава 10
Благодарность мира бледных
«Слово, смысл которого я забыл окончательно, размышляя, – это «жестокость». Что люди называют жестоким и в каких обстоятельствах? Дарующий добр, это мне внушали с детства. Он учит людей прощению и примирению. Но разве не жестоко это: отказаться от наказания злодеев? От воздаяния, не являющегося местью, но всего лишь дарующего право жить спокойно… И разве не жестоко пытать еретиков и насаждать веру огнем и мечом? Разве не жестоко собирать подати после неурожая, обрекая целые поселки на вымирание? Или закрывать ворота города, пораженного мором, чтобы зараза не покинула его, хотя такое решение погубит многих еще живых, попавших в ловушку стен… Я не знал никогда настоящего смысла жестокости, но и отчета себе в том не отдавал. Здесь, на берегу зеленого мира, которому его жители до сих пор не дали общего и единого имени, я совсем иначе взглянул на жестокость. Люди Сакриды или Тагорры в большинстве своем не жалеют других, но не забывают щадить себя. Их жестокость есть лицемерие, двойственность оценки. Разные гири на весах для своих и чужих… Жестокость зеленого мира страшнее, проще и честнее.
Ознакомительная версия.