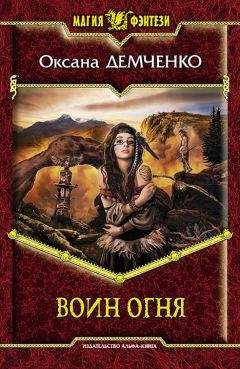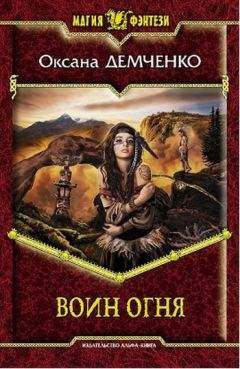Ознакомительная версия.
– Поделись башмаками, добрый путник! Видишь, беда у меня.
– Да забирай, – обрадовался Ичивари возможности избавиться от обузы и заодно поболтать. – Только они неудобные, уж не обессудь. Я вон сам стер пятку и пальцы намял.
– Странный ты путник, хоть и добрый, – задумался незнакомец, почесывая затылок. – А что, ежели я попрошу рубаху? Знамо дело, еще и от штанов карман…
Ичивари отвязал башмаки и бросил незнакомцу, внимательнее рассматривая его и примечая движение в зарослях. Широко улыбнулся, кивнул и подсел к чужаку. Тот собрался было встать и отойти, но сын вождя накрыл его плечи рукой, чуть придавливая охнувшего страдальца с голой пяткой.
– Слушай, как удачно! Ты что, этот… лихой человек? Ты-то мне и нужен!
– Может, все же не я? – как-то не обрадовался незнакомец, пытаясь отдышаться и отодвинуться.
– Мне бы бумагу справить. Имя вписать, понимаешь? Чтобы ходить тут всюду законно. Поможешь?
– Ты из гильдии или так, залетный? – насторожился любитель башмаков. – Учти, тебе в спину целят мои лучники, и, клянусь светом, это лучшие лучники на всю Тагорру, не зря в наш лес ночью сам и-Вьер, здешний владетель, не решается въехать.
– Эти? Да он один, к тому же целит тебе в пятку!
– В наше время так трудно набрать людей, – пожаловался незнакомец, сутулясь под рукой Ичивари. – Как Тощего и Крошку застрелили, наша шайка стала совсем мала и слаба. А ведь были и славные дни, под рукой Шляпника Гильермо пребывало до сорока обученных стрелков… Я был десятником. Мы владели лесами… Эх, счастливые были дни… Потом Гильермо свихнулся и застрелил человека герцога. Ведь говорили ему, и я сам твердил: «Не лезь к седому хлафу в пасть!» И вот расплата. Нас трое, мы голодаем и вынуждены проверять кошели у нищих. Гильермо колесовали на площади… – Незнакомец покосился на Ичивари. – Это я к тому говорю, что не поможем с бумагами. Самим бы уцелеть. Ты о Хуане-мяснике слышал? Первый наемник герцога. Когда больших дел нет, он от скуки нами занимается… Вот так-то. В городе о бумагах и не заикайся, сдадут вмиг! Хуан вернулся с юга злющий, что-то у него сорвалось, и он хочет крови.
– Давай хоть зайца подстрелим да поужинаем, – осторожно предложил Ичивари, припомнив точно: зайцы тут, в Тагорре, имеются.
– Подстрелим! Ночью! Нашелся умник, – скривился незнакомец. – Грибы есть. Их и едим, а что в зиму делать? На юг уйдем, точно… Нам бы еще монет пять серебром – и в путь.
Сидящему в засаде стало скучно, он захрустел ветками и выбрался на край дороги. Совсем пацан, тощий и кривоплечий, хуже Гуха… Ичивари тяжело вздохнул. Жить воровством немыслимо дурно, дома подобного и не ведают, все знают друг друга, даже столица невелика, как возьмешь и куда потом денешь добытое неправдой? Хуже воровства только предательство. И все же нескладных «лихих людей» отчего-то жаль. Может быть, из-за того, что они и не особо плохи рядом с неким неведомым Хуаном? Ичивари встал, отнял у недомерка лук, придирчиво выбрал две довольно ровные стрелы. Всего пять шагов в тень притихшего леса, одно плавное движение, напрягающее плохонькую тетиву, – и заяц на ужин готов…
– А ты где промышляешь? Чем? – со слабой надеждой поинтересовался незнакомец, недоверчиво ощупывая зайца, брошенного ему на колени. – Может, люди нужны?..
– Охотой живу. И там, откуда я родом, воровать нельзя. Совсем.
– Наверное, это далече отсюда, – задумался лесной житель. – Меня Костесом зовут. Это Эньо. Пошли ужинать.
– Я Чар. Пошли… Слушай, а вот вассал – это кто? Мне бы разобраться.
Костес, уже шагнувший в тень ветвей, остановился, оглянулся, недоуменно пожал плечами, буркнул:
– Совсем издалека, – и почему-то покрутил пальцем у виска.
Взвесив зайца в руке, Костес уточнил, не били ли гостя чем тяжелым по голове. Ах, дубинкой… Мужчина сочувственно кивнул – и стал рассказывать так, как и следует рассказывать глупому: просто, короткими фразами, все-все поясняя.
Утром Ичивари вышел в путь невыспавшийся, хмурый и полуголодный, но довольный собой. Он узнал очень много важного о жизни в Тагорре и теперь куда лучше представлял свое место здесь. Лесные разбойнички тоже покинули свою убогую землянку под корнями старого дерева, благодаря то нелепого гостя, то самого Дарующего, то хитрюгу хлафа: мало ли кто расстарался больше прочих? В кошеле нищего Чара, страдающего потерей памяти, нашлось пять монет серебром, и дурень отдал их, не понимая ценности подарка. Иначе кто бы расстался с деньгами ради незнакомых людей? Да еще советовал бросить старое и заняться обычной, достойной работой.
– Костес, хорошее имя, – бормотал Ичивари, шагая по обочине. – Это уже что-то. Я страждущий Костес, житель портового города Брава. Рыбак я. Иду в поло… в паломничество! Это не место, а цель. Я беден, я молюсь, и я немного не в себе. Мне даже можно побираться и просить хлеб. И мне не обязательно иметь бумагу, я же не в своем уме! Это тут допустимо. Самое большее плеткой по спине врежут, никому я не нужен. Если что, буду кашлять, как показали… с кровью. Дело нехитрое.
Довольный собой, Ичивари зашагал быстрее, почти не глядя по сторонам и стараясь не рассматривать небо, поскольку тагоррийцы так не делают. Да и не время, надо добыть еды, любой. Жалкий кус заячьего мяса – этого хватило только на то, чтобы раздразнить желудок.
Лес кончился. Был он так мал, что, по мнению махига, и лесом не мог считаться в полном смысле слова. Как жить зверю, когда кругом поля, печной дым по земле стелется, мешается с туманом?.. Псы зло перелаиваются, а их слыхать из самой чащобы. Поля же нарезаны так плотно, что дикой травы вовсе и не осталось, а какая есть, истоптана скотом и выщипана до голых кочек с короткой щеткой едва наметившейся зелени…
Ленивые сонные тагоррийцы понемногу просыпались, выбирались на дорогу, опасливо и уважительно косясь на плечистого паломника, шагающего широко, босого, с диким огнем веры во взоре. И рубище у него так убого – хоть в святые записывай, да и идет без устали, словно свет его питает, как и обещают своим чадам приходские гратио… Столь внушительная твердость в вере скоро обеспечила Ичивари первым пожертвованием в виде довольно черствой и даже несколько плесневой краюхи хлеба. Потом к ней добавилась связка подгнившего лука. Страждущий уместил толстую веревку с луковыми головками на шее и принялся завтракать, вгрызаясь крепкими зубами в краюху и заедая луком прямо со связки. Солнышко раздвинуло занавесь розового тумана и выбралось на тропу дня. Махиг улыбнулся рассвету, вдоволь напился из небольшого ручейка, умылся и пошел дальше, бестрепетной рукой сотворив знак света для двух местных фермеров, несмело попросивших благословить поле. Жизнь на берегу бледных снова показалась вполне сносной. Люди пашут и ходят по меже с тяпками, осматривают свои наделы, гонят скот на выпас, косят траву… Не такие они и лодыри.
Почему в какой-то момент стало жизненно необходимо свернуть с каменной дороги на малую, плотно накатанную двумя глубокими колеями в сухой грязи, Ичивари не мог объяснить. Но с собой спорить не осмелился. Когда правая душа ноет и тянет, отказа ей нет: правая – она ведь к неявленному чутка. Тем более у него, воспитанного дедом для служения. Он и на ферму бледных свернул не вполне случайно тогда, в утро встречи с Шеулой. Правая душа шевельнулась, он не понял, но и не ослушался… Была величайшая неожиданность и загадка в самой возможности уловить похожий знак духов здесь, в чужом и мертвом краю, забывшем запахи природы и заменившем их ненастоящим, горелым и прелым, домашним и пыльным… Ичивари щурился, не понимая своего поведения, чаще глядел по сторонам и обещал себе: еще один поворот дороги – и все, и он убедится, что душа ошиблась. Не его дело бродить по чужим полям, здесь нет толпы и нет паломников, на него и так косятся с недоумением, а то и подозрением. Всего один изгиб дороги – и довольно, и хватит.
Лощина, холм и деревушка на склоне явили себя взору за дружной порослью незнакомых, но нарядных и опрятных деревьев со смуглой и гладкой, как кожа девушки, корой. Ичивари ненадолго остановился, опираясь на палку и любуясь красивым видом. Потом нахмурился: здешние люди не занимались своими полями, они сгрудились у большого дома и шумели в полный голос. Нехорошо так, раздраженно и даже зло. Махиг поправил знак чаши на шее, откусил пол-луковицы, сунул в рот последний кус хлеба и пошел к большому дому. Для себя он назвал его «домом старейшин»: длинный, добротный, в таком удобно собираться и решать важные дела.
Подойдя ближе, Ичивари понял, что привычка примерять свои обычаи к чужой жизни обманула: перед ним растопырилось в семь окон то, что называется у бледных таберной. Место для еды и отдыха, покупаемых странниками за деньги. Махиг даже приободрился: самое время усилить завтрак чем-то более существенным, нежели лук и хлеб. Толпа народу уже была совсем рядом, по краю переминались самые тощие и нерешительные. Ичивари врезался в массу людских тел с целеустремленностью страждущего и побрел к дверям таберны, разгребая людей, как пловец – волны.
Ознакомительная версия.