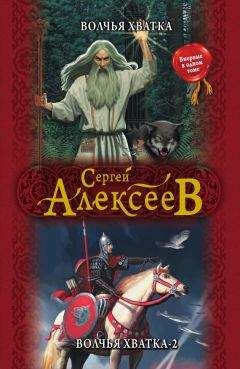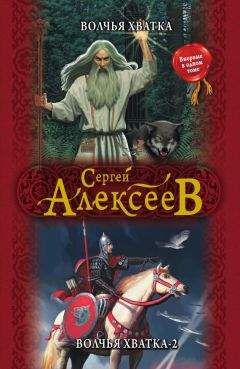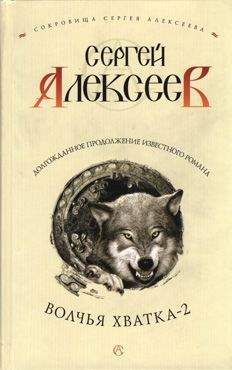Продрав отаву и стерню ристалища, он приземлился и снова пошел на сближение. В тот момент Ражный понял, что поединок не закончится этим зачином – будет братание со зверем, как только он сократит расстояние до такой степени, что увернуться от челюстей уже станет невозможно. Сейчас волк находился на крайнем пределе, и Ражный медленно отступал, заставляя его все время менять дистанцию, и, выбрав мгновение, сам прыгнул ему навстречу, тем самым спровоцировав бросок. Молчун чакнул зубами у правого плеча, однако Ражный успел крутануть волчка и достал зверя по задним лапам. Удар хоть и был сильным, валким, но лишь для человека; облегченный волчий зад откинуло в сторону, зверь полетел боком, но сохранил равновесие. И все-таки это был удар!
В ответ хищник безбоязненно приблизился и переступил черту, за которой даже при мгновенной реакции Ражный не смог бы увернуться от его хватки. Правда, он сам терял силу рывка за счет потери энергии броска, но кто знает, какая мощь таится в толстой, напружиненной шее?..
Сейчас хотя бы рукавицы! Чтоб вогнать кулак в пасть зверя и, пока он грызет кисть, задавить другой рукой…
Неужели Гайдамак знал, с кем будет поединок, и потому не прислал рукавиц? Неужели он сам никогда не дрался с хищным зверем?..
Из раскрытой пасти по черным брылям стекала, вскипая, белая пена, из сморщенного в рыке, опаленного и разбитого носа пузырилась сукровица. Израненный, ослепленный зверь жаждал не крови – мести человеку и не хотел разыгрывать схватку. Он мыслил или отомстить, или умереть…
Если вообще способен был мыслить.
Дистанция сокращалась, взбешенный хищник, ведомый древним инстинктом, сквозь плоть, сквозь воняющую потом рубаху не нюхом – иным способом почуял близкую, горячую кровь, а значит, и смерть врага. Бельмастый прищуренный глаз выхватил правый бок, где под кожей и тонким мышечным полотном билась и излучала особое свечение мягкая, уязвимая печень.
Ражный заслонил ее рукой, тем самым спасая жизнь…
Клыки замкнулись точно на предплечье, пробили мышцу снизу и сверху, взяли в замок. Он не хотел подставлять десницу; если и жертвовать, то уж левой рукой, а правой найти под шерстью горло и давить, пока не ослабнут челюсти. Но было поздно: зверь повис в мертвой хватке, совершая мгновенный перехват, а проще говоря, пережевывая, перерезая клыками мышцу. От рывка Ражный был застрахован костями, толстыми сухожилиями и еще тем, что волк ударил с короткого расстояния и почти сразу шея его оказалась в локтевом сгибе левой руки.
Но не дотянуться до горла! А хищник, должно быть, почуял вкус крови…
Он не ощущал боли – иное состояние довлело в тот миг! Он вспомнил противника только что родившимся волчонком, которого спокойно посадил в карман. И вдруг с потрясающей остротой почувствовал прикосновение перстов Судьбы. Они показались беспощаднее звериных клыков, режущих плоть: все три его поединка были пирами – Пир Свадебный, Тризный, Судный…
А подаренная ему победа незнакомым засадником Стерховым обернулась поражением в схватке со Скифом.
И звереныш, некогда увязавшийся за ним, был спасен от смерти, чтоб случился этот, последний, Судный поединок.
Сопротивление в принципе было бессмысленно: никому еще на земле не удавалось переломить промыслов Божьих. Но повинуясь инстинкту, Ражный сильнее сдавил шею Молчуна и опрокинул его наземь, целя надавить коленом грудь, где слышался стук звериного сердца.
А тот уже вкусил человеческой крови! И вдруг разжал, разомкнул челюсти, сведенные судорогой мести. Кровь из резаных ран ударила фонтаном, обливая морду зверя; избегая ее, противясь, волк внезапно легко вывернул голову из захвата, сморгнул наконец мешающее ему бельмо и уставился на Ражного диким, сумасшедшим глазом.
В следующий миг неуклюже, деревянно отскочил на сажень и внезапно выгнулся, захрипел, будто смертельно раненный, и снова воззрился на противника.
– Ты что? – спросил Ражный.
Зверь выплюнул сгусток и поднял все время прижатые уши.
– Ну?! Давай, давай! Я готов! – Его уже будоражил вид собственной крови. – Никогда не смотри на раны врага…
Волк отскочил еще на сажень, вперив в Ражного безумный единственный глаз. Он еще приседал на передние лапы. Но не затем, чтобы сделать прыжок; зверя выгибало и выворачивало.
Теперь он сократил дистанцию, пнул Молчуна в бок.
– Вставай! Это Судный Пир! Вставай!.. Один из нас должен умереть!
Молчун отполз задом, и бельмо вновь заслонило зрачок…
– Но ты же зверь!.. Поднимайся!.. Слышишь? Разве ты не знаешь вкус мести? Я разорил твое логово! Я навел стрелков, натравил охотников!
Ражный наступал, окрашивая снежное ристалище в алый цвет. Он уже чувствовал, как вид собственной крови возжигает в сердце неукротимую ярость и жажду победы.
Волк же сделал два скачка в сторону, покружился и лег. Голова его не держалась, по телу пробегали конвульсивные судороги.
– Ну что же ты, Молчун?.. Я подставил под ружья твоих братьев. Я застрелил отца твоего! И содрал с него шкуру!.. Отомсти же мне, зверь!
Волк тряхнул головой и с трудом оторвал ее от земли – подломившиеся оба уха разъезжались по сторонам. Наконец он приподнялся на передних лапах, взрыл ими землю.
В нем еще была мощь – крепкий, жесткий дерн полетел комьями! – и вроде бы решительно клацнули зубы, но Ражному почудился смиренно-решительный голос:
– Довольно…
– Нет! – почти взревел он. – Пир Судный!..
Прикрыв взгляд бельмом, Молчун вскочил, метнулся в одну сторону, в другую, потом внезапно пошел по ристалищу штопором – закрутился серый вихрь, побежал по кругу, вместе с собою заворачивая пространство в тугую спираль. Это был дикий, сумасшедший танец, и хотя язык его оставался неясным, Ражного вдруг обожгло горячим степным ветром, слух пронзил древний монотонный напев – вой ли волчий, колыбельная ли песнь без слов? Или это был голос ветреного бескрайнего простора, голос Космоса, ниспадающий на землю и понятный всякому живому существу?
Чудилось, что зверь, как в сказке, закончит это стихийное кружение, ударится о землю и предстанет в новом образе.
А он повертелся, замедляя движение, как теряющий силу волчок, перевернулся через голову и лег.
На брюхе зияла огромная рана, которую может оставить лишь волк особой хваткой снизу вверх…
Полежал и пополз, разматывая по ристалищу остатки жизни, тянул ее за собой, как после рождения не отрезанную еще волчицей пуповину…
Ражный догнал его, опрокинул на бок и зажал рану руками. Молчун попытался вырваться, стряхнуть человеческие руки, и когда не вышло – оскалившись, потянулся к ним…
И не посмев тронуть, откинул голову.
А Ражный заталкивал, забивал назад рвущуюся из волчьей плоти жизнь и озирался, чтобы позвать на помощь людей.
Однако в этот час ни в дубраве, ни вокруг уже не было ни единой души – ни птичьей, ни человеческой. Разве что тяжело покачивались насиженные и оставленные ветви…
Сирое Урочище располагалось в северных Вещерских лесах и, несмотря на близость к обжитым землям, даже среди старых араксов считалось самым потаенным из всех иных урочищ воинства. Многие поединщики, будь то вольные или вотчинные, получив поруку, под любым предлогом оказывались в районе места схватки, дабы отыскать дубраву, прочувствовать силу, исходящую от земляного ковра, и приготовиться к поединку. И редко кто из них по доброй воле отправлялся на Вещеру, чтоб отыскать это мрачное, с дурной славой Урочище; все знали, что попасть в монастырский скит возможно лишь по приговору суда Ослаба и после обязательного послушания, которое длилось не меньше девяти месяцев.
Ровно столько, сколько требуется для зачатия и рождения нового человека.
По рассказам Елизаветы, если кто-то из поединщиков, разочаровавшись в мирской жизни и презрев обычаи, приходил в Вещерские леса, то мог блуждать здесь хоть до смерти, безрезультатно исхаживая пространство вдоль и поперек. Чаще всего люди теряли рассудок и ориентацию, хотя пытались двигаться по солнцу, звездам или компасу. Можно было, например, зайти с одной стороны и неожиданно оказаться совсем в другой, эдак за полсотни километров. Особо упрямые исследовали лес шаг за шагом, от дерева к дереву, даже нитки натягивали, но все равно блуждали и, кому удавалось вернуться, говорили потом, что в некоем месте слышали голоса, крики, мычание скота, лай собак, стук топора, даже чуяли дым, запах свежеиспеченного хлеба и отчетливо видели летающих пчел – одним словом, полное ощущение человеческого жилья.
У всех, кто хаживал в недра Вещерских лесов, в том числе и у местных жителей, существовало поверье: если забрел далеко и вдруг услышал треск сороки или назойливую кукушку, готовую сесть на голову, в тот же миг разворачивайся и пулей назад. Промедлишь – и непременно заблудишься, или найдет помрачение ума, внезапное затмение, и очнешься потом неизвестно где и неизвестно кем: люди забывали, кто они, как их зовут, и не узнавали своих родственников.