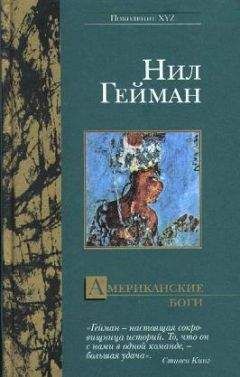Покачивание головы.
– Ладно. Вы меня уели. Что?
– Я мог бы вам рассказать, – серьезно ответил мистер Мир. – Но тогда мне пришлось бы вас убить. – Он подмигнул, и напряжение в комнате спало.
Толстый мальчишка захихикал тихим гнусавым смехом в горле и носу.
– О'кей, – прогнусавил он. – Хе. Хе. О'кей. Хе. Усек. Сообщение на планете Техническая принято. Ясно и четко. Секу.
Мистер Мир покачал головой, потом положил руку на плечо толстому мальчишке.
– Вы правда хотите знать?
– А то!
– Ну, – сказал мистер Мир, – раз уж мы друзья, вот вам и ответ: я собираюсь взять палку и бросить ее над сходящимися для битвы армиями. И когда я ее брошу, она превратится в копье. А когда копье полетит над битвой, я прокричу: «Эту битву я посвящаю О́дину».
– Что? – переспросил толстый мальчишка. – Зачем?
– Ради власти, – ответил мистер Мир, скребя подбородок. – И пропитания. Ради того и другого. Видите ли, исход битвы значения не имеет. Важны только хаос и бойня.
– Не понял.
– Давайте я вам покажу. Вот как это будет, – сказал мистер Мир. – Смотри! – Из кармана плаща он вынул нож и единым плавным движением вонзил клинок в складку плоти под подбородком мальчишки и с силой ударил вверх – в самый мозг. – Эту смерть я посвящаю О́дину, – произнес он, когда нож вошел по самую рукоять.
На руку ему пролилось что-то, что не было кровью, в глазах толстого мальчишки затрещали искры. В воздухе запахло паленой изоляцией.
Рука толстого мальчишки конвульсивно дернулась, потом упала. На лице у него застыло выражение недоумения и обиды.
– Только посмотри на него, – возвестил мистер Мир, обращаясь к воздуху. – Он выглядит так, словно только что у него на глазах последовательность нулей и единиц превратилась в стаю пестрых птиц и улетела в небо.
Из пустого скального коридора не ответили.
Мистер Мир взвалил тело себе на плечо, словно весило оно не больше пушинки, открыл диораму с эльфами и свалил труп возле перегонного куба, прикрыв длинным черным пальто. Вечером будет время от него избавиться, подумал он, усмехаясь губами в шрамах: спрятать тело на поле битвы даже слишком просто. Никто ничего не заметит. Всем будет наплевать.
Некоторое время в командном центре царило молчание. А потом хрипловатый голос, который принадлежал вовсе не мистеру Миру, прокашлялся среди теней и произнес:
– Неплохое начало.
Они попытались не подпустить солдат, но те открыли огонь и убили обоих. Так что о тюрьме в песне сказано неверно, зато в стихах. Увы, в жизни все не как в песнях. Стихи никто не назовет правдой. В их строках для нее просто нет места.
Комментарий певца к «Балладе о Сэме Бассе». Из «Сокровищницы американского фольклора»
Ничего из этого, разумеется, не могло твориться на самом деле. Если вам так удобнее, считайте это метафорой. В конце концов, все религии по сути метафоры: Господь – это мечта, надежда, женщина, насмешник, отец, город, дом с тысячью комнат, часовщик, оставивший в пустыне бесценный хронометр, некто, кто вас любит, даже, быть может – вопреки всем доказательствам, – небожитель, чья единственная забота сделать так, чтобы ваша футбольная команда, армия, бизнес или брак преуспели, процветали и взяли вверх над любым противником.
Религия – это место, на котором стоят, с которого смотрят и действуют, возвышенность, дающая точку зрения на мир.
Ничего из этого не происходит. Подобное просто не может случиться. Ни одно из сказанных слов не является буквальной истиной. И все же то, что случилось потом, случилось так.
У подножия Сторожевой горы мужчины и женщины собрались под дождем вокруг небольшого костра. Они стояли под деревьями, ветки которых почти не защищали от капель, и спорили.
Владычица Кали, с угольно-черной кожей и острыми белыми зубами, сказала:
– Время пришло.
Ананси, в лимонно-желтых перчатках, с посеребренными волосами, покачал головой:
– Мы можем еще подождать. А пока ждать можно, ждать следует.
Из толпы послышался неодобрительный ропот.
– Нет, послушайте. Он прав, – сказал старик со стального цвета шевелюрой. На плече Чернобога покоилась малая кувалда. – Они на возвышенности. Погода против нас. Наступать сейчас – безумие.
Существо, немного похожее на мелкого волка и чуть больше – на человека, хмыкнув, сплюнуло на ковер иголок.
– А когда еще на них нападать, дедушка? Зачем нам ждать, пока небо прояснится? Они же этого от нас ждут. Нападем теперь. Я говорю, вперед.
– Между нами стоят тучи, – указал Иштен Венгерский. На верхней губе у него красовались тонкие черные усики, на голове сидела пыльная черная шляпа, и ухмылялся он как человек, который зарабатывает себе на жизнь, продавая алюминиевую обшивку, новые крыши и канализационные решетки пенсионерам, но, едва придет чек, не важно, сделана его работа или нет, всегда исчезает из города.
Мужчина в элегантном костюме, до сих пор молчавший, сложил руки перед собой и шагнул в огонь, иными словами, ясно и недвусмысленно выразил свое мнение. Этот жест был встречен одобрительным бормотанием и кивками.
Раздался новый голос – из группы трех женщин-воительниц, составлявших Морриган; они так тесно стояли среди теней, что превратились в скульптуру, словно состоящую из татуированных синим рук и ног и вороньих крыльев. Она сказала:
– Не важно, хорошее сейчас время или дурное. Время настало. Они нас убивают. Лучше погибнуть всем вместе, наступая, как пристало богам, а не умирать по одиночке в бегстве, будто крысы в подвале.
Снова бормотание, почти единодушное одобрение. Она сказала за всех. Время настало.
– Первая голова моя, – произнес исключительно высокий китаец с ожерельем из крохотных черепов на шее. Медленно, но решительно он стал подниматься на гору, вскинув на плечо посох, заканчивавшийся изогнутым клинком, словно серебристым серпом луны.
Даже Ничто не может длиться вечно.
Возможно, он провел в Нигде десять минут, а возможно, десять тысяч лет. Разницы не было никакой, время превратилось в концепцию, в которой давно уже отпала необходимость.
Он теперь не помнил своего настоящего имени. Он чувствовал себя пустым и очищенным в этом месте, которое и местом-то не было.
Он не имел формы в этой пустоте.
Он был ничем.
И в этом Ничто чей-то голос вдруг произнес:
– Хо-хока, братец. Нам надо поговорить.
А что-то, что когда-то, возможно, было Тенью, спросило:
– Виски Джек?
– Ага, – ответил Виски Джек в темноте. – Ловко сумел спрятаться, стоило тебе помереть. Ты не пошел ни в одно из мест, где я рассчитывал тебя найти. Куда я только ни заглядывал, пока мне не пришло в голову проверить, нет ли тебя тут. Скажи, нашел ты свое племя?
Тень вспомнил мужчину и девушку на дискотеке под вращающимся зеркальным шаром.
– Думаю, я нашел мою семью. Но моего племени я так и не нашел.
– Прости, если помешал.
– Оставь меня в покое. Я получил, что хотел. С меня хватит.
– Они за тобой придут, – сказал Виски Джек. – Они тебя оживят.
– Но со мной же покончено, – отмахнулся Тень. – Все кончено.
– Ничего подобного, – возразил Виски Джек. – И не надейся, так никогда не бывает. Пойдем ко мне. Хочешь пива?
Тени подумалось, что пива он и впрямь хочет.
– Конечно.
– И мне тоже прихвати. Там ледник за дверью, – сказал Виски Джек, указывая куда-то. Они сидели в его хижине.
Тень открыл дверь хижины рукой, которой мгновением раньше у него еще не было. За дверью стоял пластмассовый ящик, до половины заваленный кусками речного льда, а на льду – дюжина банок «будвайзера». Он взял было пару банок, но потом присел на пороге и стал смотреть в долину.
Хижина прикорнула на вершине холма возле водопада, вздувшегося от тающих снегов и паводка. Вода уступами падала в долину в семидесяти футах внизу, а может быть, и в целых ста. Солнце поблескивало на ледяной корке, сковавшей ветки деревьев, нависавших над водопадом.
– Где мы? – спросил Тень.
– Там, где ты был в прошлый раз, – ответил из хижины Виски Джек. – У меня. Ты что, собираешься держать мое пиво, пока оно не нагреется?
Встав, Тень передал ему банку.
– В прошлый раз, когда я тут был, у тебя не было водопада за порогом.
Виски Джек промолчал. Он открыл пиво, а потом единым долгим глотком отпил половину банки.
– Помнишь моего племянника? Генри Синюю Сойку? Поэта? Он еще обменял свой «бьюик» на ваш «виннебаго». Помнишь его?
– Конечно. Я и не знал, что он поэт.
Виски Джек гордо вздернул подбородок.
– Черт побери, лучший в Америке, – сказал он.
Он опрокинул банку так, что в рот ему полилась золотистая струя, а когда она иссякла, рыгнув, достал себе еще одну, а Тень тем временем открыл свою, и оба они сидели на нагретом солнцем камне возле бледно-зеленого папоротника, смотрели, как низвергается вода, и пили пиво. На земле, там, где никогда не рассеивались тени, местами еще лежал снег.