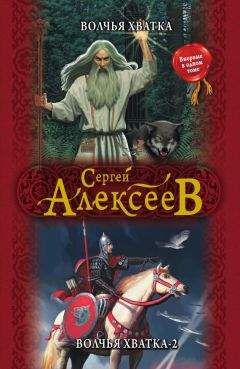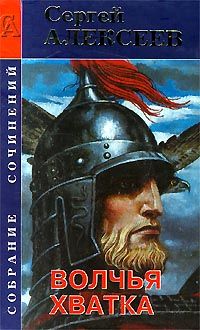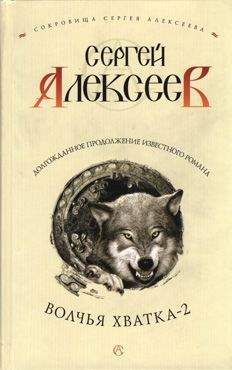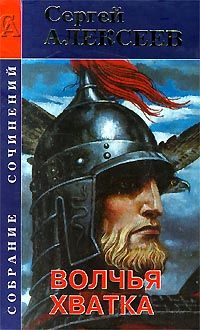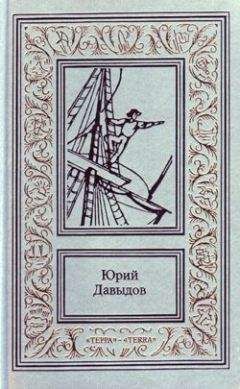Оба они наведывались в обитель, но тайно, и поэтому настоятель, ничуть не колеблясь, ответил:
—Столь важные особы нас не балуют… Только ты, святейший, и снисходишь.
И косым взором оценил своё коленопреклонение–митрополит вроде бы поверил. Впрочем, обольщаться не стоило: старый мудрый владыка умел скрывать свои чувства под любой личиной, которая в нужный час потребна была. Он сумел даже Орду нимало подивить чудотворством своим, помышляя о невозможном и тайном устремлении–сблизить ордынцев с верой христианской или вовсе окрестить хана и ханшу, дабы пересилить, перебороть супостата. Воля Алексия была понятной, Русь мыслил раскрепостить, вывести из–под татарского владычества, однако Сергий не имел с ним внутреннего согласия, ибо зрел иной путь, иные тешил мысли и посему укреплял свою обитель и иночество.
Настоятель Троицкой пустыни давно и непоколебимо убеждён был: два противоположных мира, как два поединщика на поле брани, не могли расцепить объятья и разойтись, не сразившись.
Митрополит же думал иначе и искал связующие кровеносные жилы с Востоком. Он ханшу Тайдулу излечил наложением рук с крестами наперсными и молитвой и, когда вдовствующая жена великого Узбека чудесным образом прозрела, прослыл чудотворцем, заложил Чудову обитель. А в дар получил землю в пределах кремлёвских — бывшие конюшни ордынские! Всё это Сергий считал оскорбительным для духа и нрава русского, в том числе и заложение монастыря, и лекарство митрополита, и даже дарованную землю в самом сердце стольного града. Сидючи в своём караван–сарае, раскосая баба управляла всей жизнью московской! Из князей–бояр, земель и княжеств свои узоры ткала, какие хотела, из чувств простого люда верви вила, дабы ими же спутать и укротить Русь…
Виданный ли позор?..
И смыть его возможно было лишь кровью, великой искупляющей жертвой возможно было одержать верх. Все иные пути вели к гибели. Восток, словно ползучий серый лишайник, всё плотнее затягивал краски духа земли Русской. И под этим покровом незримо разъедался и растворялся вольный образ славянский, взлелеянный предками. Погружённый в греческую сень нравов, привыкший служить византийскому патриарху, Алексий уже не внимал столь тонким, острым и яростным чувствам, которые испытывал всякий послух, пришедший в обитель Сергия.
Братия кое–как втянулась в тесноватый храм и началась служба, прежде чем митрополит стряхнул задумчивое оцепенение.
— Жалобы на тебя, игумен! — словно спохватившись, промолвил он уже без прежней суровости. — И дня нет, чтоб челобитную не подали. Ты почто опять велел братии дань сбирать с окрестных земель? Ровно баскаки, наскакивают иноки твои!.. Кто позволил тебе подати требовать? Воеводой себя возомнил? Князьком удельным?
Сергий и это выслушал с прежней иноческой невозмутимостью: нет, не судить приехал митрополит, что–то иное тревожило. Подати настоятель собирал давно, невзирая на запреты, и всех челобитчиков знал наперечёт. Не поехал бы Алексий в эдакую даль, чтоб обложенных данью крестьян освободить от тягла да игумена отругать.
— А я, святейший, тебе уподобился, — дерзко отозвался он. — Ты ведь тоже не государь, не великий князь. Но ныне властвуешь не токмо на духовном поприще. Не токмо святительскую славу себе снискал на Руси. Вот и шлют тебе челобитные, словно царю.
Алексий встрепенулся от его слов и, верно, ответить хотел резко, да в церкви грянул густой мужской хор. Всякий бы соборный столичный храм позавидовал столь могучим голосам и спевке. Сергий про себя ругнул братию: след ли силу пением показывать, коль собрались слепые да глухие? Ведь упреждал певчих, запрещал свои лужёные глотки выказывать!
Однако святейший вроде бы не заметил столь зримой разницы притворной убогости и непритворных голосов.
— Ещё сказывают, ты в некоем тайном скиту людишек пытаешь с пристрастием, — заявил он. — Которые к тебе в пустынь приходят.
— А разве ты еретиков не пытаешь на Чудовом подворье? — спросил настоятель и словно обезоружил Алексия.
— Тяжко мне сие ремесло…
— Будто мне в радость!
— И мирская власть мне в тягость, — пожаловался он. — Покуда Дмитрий Иванович молод, на себя бремя принял. А заместо благодарности от князя недовольство слышу.
— Тут твоя правда, святейший, — с готовностью поддакнул настоятель, ровно не вняв последним словам Алексия. — Ныне всюду так устроилось. Кто по собственной воле на себя бремя взял, тому и нести его.
Мудрёный смысл ответа митрополит не уловил, ибо довлели над ним совсем иные, потаённые мысли. Послушал хор и ещё больше ссутулился, словно ноша на плечи легла.
— Ты прости меня, брат Сергий, — снизошёл вдруг до имени. — Я к тебе ныне как к духовнику пожаловал. Некому стало горечь сердечную поведать. За утешением пришёл.
Настоятель помалкивал, перебирая чётки–листовки, ждал. Алексий помедлил, отпыхиваясь, — на одышку пробило.
— Позрел на твоих незрячих, ещё горше стало… Я ведь в Орде вовсе и не чудотворствовал. Ханша обманом заманила… Зрячей была, притворилась. Хан Джанибек заболел, но Тайдула вздумала сыновнюю болезнь утаить, дабы власти не потерять. Про себя сказала, мол, захворала, ослепла… Врачевал хана, да без толку. Не поднял молитвами… А ханша славу распустила про своё исцеление.
Пользуясь долгой паузой, Сергий чурку установил напротив Алексия и сел наконец–то, готовый исповедь выслушать. А тот будто бы горечь со своей души соскребал, откашливал мокроту, чтоб выплюнуть, сидел, обвисший на посохе, шамкал редкозубым ртом. Но не выплюнул, вдруг сглотнул вместе с одышкой, воздух носом потянул и отпрянул.
— Чем от тебя разит–то, игумен? Запах дурной…
— Да уж не благовониями мы тут пропахли, — подтвердил тот. — Не ладанным духом.
— А чем ещё?!
— Братия от восхода до заката с топорами не расстаётся. На службе кулаками крестится. Персты по чину не слагаются, заскорузли…
— С топорами? — отвлечённо и подозрительно спросил митрополит.
— Так ещё шестнадцать скитов рубим, четыре башни вежевых, что татарва спалила, и три часовенки. В баню ходить каждодневно устав не велит. Нечего баловать тело…
— Да ты же трапезничал с чесноком! — Алексий брезгливо отодвинулся.
— На дух не переношу!
— Ровно татарин стал, как из Орды возвратился…
— От инока должен исходить дух благостный — не мужицкий!
— Это не чеснок, святейший, — черемша, — признался игумен. — Весною собираем да мочим, словно капусту. Полезная снедь от заразных болезней. А всё целебное — горькое либо вонькое. Пчёлки эвон с конского пота и мочи соль собирают, а мёд сладкий делается.