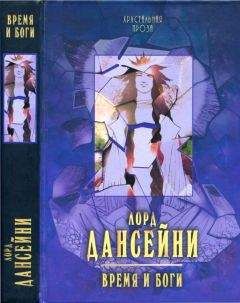— Отчего же они должны приносить вам жертвы? — спросил я.
— Это их долг, — резко ответил он.
Тогда я сделал то, что нипочем не следует делать, когда речь заходит о религии; я попытался спорить.
— Но разве они жертвовали не за тем, чтобы вы прекратили сотрясать землю? — спросил я.
— Безусловно, — ответил он.
— Тогда какой резон им вновь начать приносить жертвы, чтобы вы набрались сил и снова взялись за свое?
Мой вопрос пропал втуне. Подобные аргументы никогда не достигают цели. Он просто потерял ко мне интерес, и вместе с этим растаял в воздухе; лишь смутные очертания фигуры, его лица, бороды и изодранного одеяния чуть виднелись в вечернем свете. А потом прилетела жужжащая бабочка-шмелевидка*, закружила над цветком, и старый бог отодвинулся от нее.
— Что тут за суета? — сварливо произнес он. — Нельзя разве вести себя поспокойней? Я вот никогда не тороплюсь. Какая в том нужда? Никакой нужды нет.
А я подумал, что он лишь сделал вид, будто покинул меня по своей воле. На самом деле его отбросило сквознячком, потянувшим от крыльев летящей бабочки.
Мухи вовсе не обязательно обитают в некоем своем замкнутом пространстве. Если старый дуб или руины башни, или какой-то темный коридор древнего дома при свете полной луны сподобились стать обителью призрака, который вновь появился там в полнолуние, как знать, какой путь успел он проделать за этот лунный месяц. И покуда мы следуем заросшими травой тропинками, огибающими сад, призраки, быть может, кружат по орбитам планет, а то и где-нибудь дальше, где и планет-то нет, путешествуя близко к скорости мысли; хотя их шаг, само собой, меняется в зависимости от настроений, нарушающих невозмутимость эфира. Однажды я повстречал такого вдали от его дома. Он поведал мне свою историю. Но смысл ее дошел до меня только на другой день, когда я гулял у отрогов гейдельбергских гор, поблескивавших черными искрами железных руд.
Боги звезды, которую он мне не назвал, слепили себе планету и даже уже почти заставили ее вертеться в космической пустоте вокруг своего светила. Из слов того призрака я понял, что планета эта, хоть и небольшая, была прекраснейшей из всех, чьи орбиты он посетил. Пусть она частью была сумрачной или пустынной — не обо всех уголках ее он мне рассказал — но если она действительно во многом была именно такой, какой он ее описывал, то никакое воображение не нарисует себе что-либо более прекрасное.
Он говорил о цепи гор, утесы которых смутно напоминали очертания самих богов: серые и мрачные на вершине, ниже они были украшены зеленым луговым нарядом, который переходил в виноградники, окруженные лесом. Называл он и деревья в том лесу, да звучали их имена мне незнакомо, но по звенящему голосу, каким он рассказывал о них, можно было понять, что отличались они дивной красотой, неведомой на нашей земле.
Он рассказывал о белых домиках, расположившихся в их тени, и садах вокруг этих домов; о горных ручьях, вечно струящихся по кручам, ибо нет разницы во временах в глазах богов, и они, не прикованные, как мы, к настоящему, как к единственной странице в открытой книге, взирают на все, как на картины, развешенные по стенам. А потому они видели дома, которым еще только предстоит появиться, и все сады и виноградники, подобно тому, как они видели новорожденную планету, сияющую в руках старших богов. И был среди них один, кого другие не знали, столь древний, что он выпадал из тех времен, что они могли прозревать. Они лишь слышали его голос. И они взирали на эту планету в тиши, пока он, нарушив безмолвие, толчком невидимой руки не привел ее в движение.
Призрак немного рассказал об этой планете прозой, вскоре перейдя на стихи, а потом на пение; и по мере того как доходил он в своем описании до экстаза, мелодия восходила к звукам, недоступным моему слуху, но по его глазам и по едва уловимым токам околдованного эфира я чувствовал, что он продолжает петь о той планете. Потом он рассказал, что древний бог, тот, кого другие не знали, от щедрот своих невидимой рукой раскидал у подножья гор крупицы золота — одну только горсть, но то была горсть божьей десницы; и эта золотая пыль сверкала на склонах под светом небес.
Боги некоторое время любовались этой красотой; а потом, окинув взглядом ход времен, один из них заметил то, что таилось во временах, скрытых в глубине садов. И в тех временах сады исчезли, исчез и лес, и виноградники; ручьи струились по своим руслам вдоль омертвевших склонов; люди рыли золото, и младших богов поразил ужас. Только древний бог, которого они не знали, оставался невозмутимым, и его безмятежность пережила века целых созвездий.
Думается, картина, которую увидели в тот момент боги, была еще страшнее, чем описал ее призрак. Он вновь заговорил прозой, а потом замолчал и разрыдался. Кажется, самый младший из богов произнес: «Можно ли нам не собирать эту золотую пыль?»
А голос того, кого они не знали, ответствовал: «Уже слишком поздно».
И потом вновь прошли века под властью невидимой руки бога, которого они не знали. Покуда самый младший из богов не сказал: «О, пусть тот, кого мы не знаем, превратит золото в железо».
И в тот последний миг бог, которого они не знали, мановением невидимой длани превратил крупицы золота в железо. И планета мирно продолжила свой путь, а люди на ней жили, возделывая виноградники и поклоняясь богам — иным, не тем, которых знал этот призрак.
ARDOR CANIS
Перевод Г. Шульги.
Не принято обсуждать публично исключение из какого бы то ни было клуба его члена. По двум причинам: с одной стороны, это с очевидностью вредит клубу, а с другой — такие обсуждения обычно невыносимо скучны публике. Но некоторые аспекты недавнего исключения мистера Таббнера-Уорбли из Клуба избирателей столь необычны, что оно выбивается из общего порядка. Нет нужды объяснять, что Клуб избирателей — это очень старый клуб и что его основатели всегда стремились сделать его как можно более закрытым, для чего одно из требований к членству, как следует из его названия, состояло в том, чтобы каждый кандидат имел право избирать в парламент. И если этому требованию сейчас отвечает несколько большее количество народа, чем предполагалось изначально, то виноват в этом не клуб, который непоколебимо придерживается этого правила, а государство.
Я упомянул об этом правиле, просто чтобы объяснить название клуба; но правило, важное для моего рассказа, правило, в соответствии с которым был исключен Таббнер-Уорбли, состояло в том, что если ежегодный взнос платили чеком, то чек должен быть кроссирован*. Член клуба, о котором идет речь, обычно платил посредством банковского поручения, и банк, а точнее, один из его клерков, нанятый на временную работу уже в войну, выписал некроссированный чек. Ответственность за это, разумеется, легла исключительно на Таббнера-Уорбли и, в соответствии с другим правилом, которое предусматривало исключение в наказание за предумышленное нарушение устава клуба, он был исключен. Вот и все, что известно об этом сейчас, — правление сочло, вполне достаточно; но мне кажется, обстоятельства, которые заставили правление действовать именно таким образом, настолько неординарны, что заслуживают обнародования.