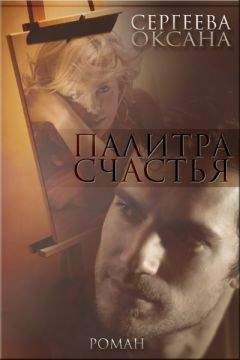— Она ничего не рассказывала нам, — запинаясь, но все еще довольно твердым голосом проговорил старейшина. — Ты же видишь, добрый человек, эта девочка молчит. Она неделю уже у нас и за все это время не произнесла ни слова. А то, что Хозяева сотворили в ее деревне, я собственными глазами видел!
— Так значит, она не ваша? — повторил дружинник, словно ухватившись за какую-то мысль.
— Нет, — качнул головой староста, не понимая, к чему тот клонит.
— И дань вам платить нечем?
Староста судорожно сглотнул и снова мотнул головой из стороны в сторону. Дружинник сделал шаг от него к Заниле.
— Отдайте мне ее. Это будет вашей данью! Рабы при княжеском дворе сейчас ценятся высоко. Я думаю, этого хватит за этот год и даже за следующий.
По толпе крестьян пронесся изумленный вздох и стих сам собой. Все они стояли и смотрели на Занилу. Староста молчал. В северном Махейне не было рабства. Они знали, конечно, что в далеких южных странах оно существует, но им самим это казалось диким. А уж о том, чтобы продать в рабство кого-то из своих близких, не могло быть и речи! Но, с другой стороны, дружинник прав: она чужая. Эта странная, упорно молчащая девочка, вышедшая к ним из леса. Кто знает, может быть, хозяева сохранили ей жизнь не с проста, и придут за ней?! И дань платить нечем! От этих дюжих парней одними разговорами не отделаешься. Они пришли сюда за данью и без нее не уйдут! Они начнут грабить, и может быть, даже прольется кровь!
Одно рассуждение нанизывалось на другое, услужливо приводя удобные аргументы. Староста не смотрел на девочку, от которой как-то незаметно отхлынула толпа, так, что она осталась стоять совершенно одна посредине двора. Толпа все решила.
Марыти вдруг шагнула вперед, прижала к себе девочку.
— Что вы люди, совсем ума лишились?! — она оглянулась по сторонам, ища поддержки. Неужели она одна понимает, какое непотребство они творят?! — Своих детей, небось, в рабство не отдаете!
Но ответом ей было молчание. Марыти обернулась на мужа, ища хотя бы у него поддержки, но Яков отвел глаза в сторону. Девочка вдруг высвободилась из ее рук, отстранилась.
— Защищай своих сыновей, — тихий звонкий детский голос, с которым никак не вязались по-взрослому твердые интонации, заставил ее вздрогнуть. Занила смотрела на нее снизу вверх, но женщине вдруг захотелось упасть перед ней на колени. — У меня свой путь.
Занила прикрыла глаза. Слез не было, да и не о чем ей сейчас было плакать. Она стояла совершенно одна посреди залитого солнцем двора корчмы, и темные глаза хозяина мерцали впереди, звали на ее путь. И она знала, что теперь так будет всегда.
Ранним утром на последней из трех груженых телег из деревни уезжала девочка. Марыти так и оставила ей свой лисий полушубок, даже муж не посмел ей этого запретить. Она не плакала, только крепче прижимала к груди сыновей, а они не отстранялись, не вырывались из материнских рук, как обычно. Вряд ли они понимали, что произошло, но и их словно опалило чужое непонятное горе.
Занила сидела на тюках, завернувшись в просторную для нее лисью шубу, а телега неспешно катилась вперед по смерзшейся за ночь дороге. По обе стороны от нее скакали дружинники, копыта их лошадей звонко цокали, выбивая крошки льда. Занила смотрела на деревню, остававшуюся позади, на дом, почти скрывшийся за поворотом дороги. Этот дом так и не стал ей родным. На его пороге неподвижно, закутавшись в пестрый платок, стояла женщина, так и не ставшая ей матерью. Еще один дом, который подернется пеплом, покроется белым саваном снега.
Вольное княжество Махейн, столица Североград. 1270 год от Сотворения мира.
Тяжело груженая телега катилась по дороге, то и дело подпрыгивая на колдобинах смерзшейся, но еще не занесенной снегом грязи. Впереди нее катились еще две такие же. У самой первой вчера, перед привалом, на особенно крутом повороте отлетело колесо. Возница едва успел остановить лошадь, не дал княжеской дани развалиться по всей дороге. Но несколько больших глиняных кувшинов все же спасти не смог: они выкатились из-под казалось бы надежно увязанного кожаного полога и разбились в мелкие осколки, разлилось по промерзлой дороге запечатанное в них масло. От того старшина, ехавший впереди на своем крупном гнедом жеребце, с утра был хмур. Да и колесо, не без труда отысканное в придорожной канаве и за ночь кое-как приколоченное на свое законное место, катилось неровно, скрипя, словно задевая за что-то, то и дело предательски кренилось, норовило соскользнуть прочь. Возница был чуть ли не мрачнее самого старшины. Он хмурился, заставляя лошадь идти шагом и постоянно оглядываясь назад.
Впрочем, его лошадь была скорее рада этому обстоятельству, как и верховые лошади дружинников. На этой дороге, покрытой колдобинами, всадники больше не могли ехать как прежде — по бокам телег: копыта лошадей то и дело соскальзывали с обочины, животные спотыкались, не без труда выбираясь из засыпанного снегом кустарника. Отряд отправлялся за данью в самом начале осени. Кто же знал, что зима придет в Махейн так скоро и так сурово утвердит свои права? О зимних подковах для лошадей тогда не задумались.
Обо всем этом и еще о многом другом размышлял старшина, приказывая своим людям занять места перед телегами и позади них. Он хмурился в бороду и покрикивал на людей, которые, как ему показалось, двигались недостаточно расторопно. Парни, обычно острые на язык и не упускающие случая поддеть дуг дуга, а иногда и ответить своему старшине, сейчас молчали. Они были в походе уже больше двух месяцев. Они объехали весь северо-западный Махейн. Они просто устали. И то обстоятельство, что всего в десяти переходах от княжеской столицы из-за сломанного (будь оно проклято всеми Темными Богами!) колеса им приходилось тащиться шагом, отнюдь не добавляло им расположения духа! Никто из них упорно не смотрел на свернувшуюся в своей лисьей шубе под пологом последней телеги маленькую девочку.
Первые дни ехать Заниле было интересно. Ни старшина, никто из дружинников ничем не ограничили ее свободу. Ее просто посадили на телегу и велели во время привалов никуда от лагеря не уходить. Старшина, словно стараясь напугать глупого маленького ребенка, начал рассказывать ей о голодных волках, бродящих в лесу, но, заметив совершенно не детскую насмешливую улыбку, блуждавшую на губах Занилы, смутился, оборвал свою речь на полуслове и ушел на свое место в начале маленького каравана. Так Занила и ехала, удобно устроившись на тюках с мягкими шкурками пушных зверьков, и с любопытством оглядывала все, мимо чего они проезжали. Но пейзаж от севера Махейна к югу менялся мало. Только в лесах стало больше лиственных деревьев. Хотя, впрочем, и самих лесов стало меньше. По сторонам дороги все чаще тянулись луга и холмы, изрезанные оврагами. Но это вносило не слишком большое разнообразие в окружающий ландшафт. Вскоре Заниле стало скучно, тогда она принялась разглядывать дружинников. Среди них были и совсем еще молодые парни, и зрелые мужчины с серебрившимися сединой бородами. Все они были крепкими, в каждом их движении сквозила сила… И еще: они были дружиной! Их сила заключалась еще и в уверенности друг в друге. Они знали друг друга настолько хорошо, словно были родными братьями, словно сражались вместе много лет. Впрочем, последнее как раз и могло быть правдой. Они переговаривались между собой в дороге, они вместе устраивались на привал, они горланили песни, шутили и смеялись собственным шуткам… Они словно не замечали Занилы. Нет, они не забывали кормить ее на привалах и устраивать ей ночлег не слишком далеко от огня, но ни один из них за прошедшие две недели ни разу не заговорил с ней. Не сразу, но Занила смогла понять: она — лишь дань, которую везут князю. Мало чем отличающаяся от тех же шкурок пушных зверьков!