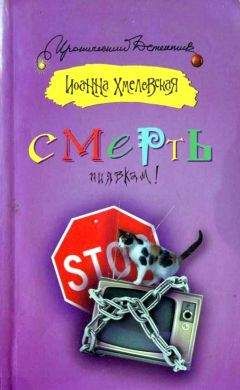Кое-что я еще умел, хотя и с трудом, с мучительными головными болями, дрожью в руках и слабостью в ногах. И когда Моше схватился рукой за выступ и перепрыгнул через небольшой провал, а спутники его — их было трое — отстали, не решаясь это сделать, я сказал себе «пора», и острогранная скала чуть повыше путников пошатнулась и рухнула. Она промчалась вниз, грохоча и разламываясь на части, от неожиданности и испуга спутники Моше остановились, на миг ослабли их руки, и этого оказалось достаточно: все трое не удержались на ногах, и общий вопль ужаса отразился от скал.
Надо отдать должное Моше, он даже не оглянулся, он понял, что произошло, но не остановился, продолжая карабкаться вверх, он уже почти добрался до ровной площадки, цель была близка, и в буром пятне чудилась ему кровь людская, кровь народа его, оставшегося внизу, на равнине, и ждущего — чего? Он еще не знал.
Теперь нас было двое здесь, я вышел из своего укрытия и стоял на фоне слепящего послеполуденного солнца. Моше видел только мой силуэт, и его распаленному воображению предстало существо, сияющее огнем.
Моше стоял у самой кромки рудного выхода и ждал. Он увидел Бога в огненном шаре, и Бог повелел ему слушать и запоминать.
Я не в силах был переделать природу человека. Но мог попытаться убедить. Что ж, пора начинать.
Я протянул вперед руки, положил пальцы на голову Моше, и гигант медленно опустился на колени, глаза его закрылись, он слушал.
Я говорил о Хаосе, каким был Мир, и говорил о себе и тех временах, когда я еще мог все. Говорил о красоте молодой планеты, о первожизни, которую я создал в океане из неживой материи, и о перволюдях — в них я вложил последние свои силы и выпустил в Мир, чтобы они в нем жили.
Наконец я подошел к главному: люди живут не так, как должны жить разумные существа. Они предоставлены себе, и в мыслях у них хаос, подобный тому, каким был Мир до Дня первого.
Жить нужно по-людски. Почитать мать и отца. Не убивать. Не прелюбодействовать. Не красть. Не произносить ложного свидетельства на ближнего своего. Не желать дома ближнего своего; не желать жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его — ничего.
Человек — высшее существо на этой планете, у него есть разум, и поэтому не может быть у него полной свободы. Человечество — гигантская система, в которой все действия подсистем — людей — должны быть взаимно согласованы. Этого нет сейчас. Это должно быть. Должен существовать Закон. Должны существовать Заповеди. Вот они.
Моше понимал, может быть, десятую часть того, что я говорил. А из понятого еще только десятую часть мог пересказать своими словами. Я знал, что пройдут века, и пересказ Моше, сам уже во многом сфантазированный, обрастет нелепыми подробностями. Но это было неизбежно — рождалась Книга.
Я должен был дать ему что-нибудь с собой, что-то вполне материальное, что он мог бы держать в руках и показывать: вот Книга, дарованная Богом. Каменные пластины я обтачивал год, выбивал на них буквы, понятные народу Моше. Конечно, это был не весь текст: ровно столько, сколько голубоглазый гигант смог бы унести.
Я кончил говорить, когда до захода солнца оставался час. Моше должен был еще совершить нелегкий спуск, и я не хотел, чтобы он сломал себе шею. Очнувшись от транса, Моше огляделся (я отошел за камни), увидел у своих ног божественные скрижали, и сдавленный вопль вырвался из его груди.
— Иди! — сказал я.
Моше затолкал пластины в заплечный мешок, где лежали остатки еды, и побежал по камням вниз — слишком резво, как мне показалось.
Он кричал что-то, но я не понимал слов, я возвращался к своим, предвкушая горячий ужин и теплую постель под холодными звездами. Жена моя ждала своего мужа и повелителя, чтобы этой ночью зачать сына, которому предстоит родить своего через двадцать с небольшим лет, и тогда умрет это мое тело, а дух мой перейдет в потомка, чтобы продолжить цепь жизни. Я был человеком среди людей, и Заповеди, которые я дал Моше и его народу, были Заповедями и для меня. Я знал, как трудно исполнять их. И как нужно, чтобы они были исполнены.
Моше Рабейну — Моисей — спускался с горы Синай к своему народу.
Мы смотрели друг другу в глаза. Мы были совсем одни. И Лине уже не было страшно. Я спросил:
— День восьмой продолжается. Ты хочешь видеть?
Она кивнула.
Отсчет времени шел, и сила моя росла. Нет, она была еще ничтожна, я оставался, в сущности, тем же Станиславом Корецким, но уже мог кое-что, чего не умел еще час или даже минуту назад. Не сделать нечто (на это сил не хватило), но — увидеть и понять.
День восьмой продолжался. В подмосковном городе Можайске пылали пожары. Началось с того, что исчез — по грехам его — сторож продовольственного склада. Дружок, распивавший с ним в закутке традиционную бутыль, решил воспользоваться ситуацией и начал выносить дефицитнейшие банки с зеленым горошком. Он исчез — по грехам своим, — когда его уже засекли горожане, и это, возможно, спасло бедолагу от худшего конца. Но склад это не спасло; в суматохе и темноте (кто-то перерезал проводку) загорелись от искры картонные коробки из-под апельсинов (заморских фруктов, не появлявшихся в магазинах не то четвертый, не то пятый год). Тушить не стали — не до того было. Потом, когда все сгорело, недосчитались нескольких человек, и никто не мог понять, что с ними случилось: исчезли как многие другие или погибли, когда рухнули перекрытия.
А в индусском селении на юге Кашмира (я видел все, что происходило на планете, но не все допускал в мозг, не все охватывал сознанием) первой исчезла — по грехам ее — женщина, стиравшая на реке белье, и это было сочтено началом Суда Кришны. Когда час спустя исчез молодой Радж Гупта, избивавший свою жену по всякому поводу и без него, старейшины, понимая свою ответственность глашатаев судьбы, выбрали следующую жертву Бога — богатого Джамну, нажившего состояние с помощью нечестных махинаций. И оказались правы, и день этот продолжался при полном, так сказать, понимании момента. Все селение собралось у храма, сидели, ждали, и когда жертва, назначенная старейшинами, покидала Мир, люди согласно кивали головами — так, верно судит Бог, верно…
А в Кении шел бой между повстанцами и правительственными войсками. Когда исчез — по грехам его — главнокомандующий, солдат охватила паника, чем повстанцы не замедлили воспользоваться. Сражение было проиграно вчистую, и министр обороны принял самоубийственное решение о применении химических боеприпасов. Я попытался спасти хотя бы жителей близлежащих селений, чей час еще не настал, это были люди, близкие к природе, грешившие, быть может, чуть меньше прочих. И я действительно спас их, с удовольствием ощущая растущую во мне силу, отогнал газы в глубокие овраги, где не водилось никакой живности, кроме змей. Но больше половины повстанческой армии, совершенно не готовой к газовой атаке, погибло на месте.