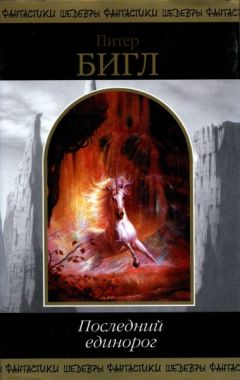Но больше эти боги от меня ничего не дождутся до конца моей жизни. Можете им так и передать, если вы имеете обыкновение беседовать с богами. Всего какая-то минута — и «Серп и тесак», бывший мне домом в течение тридцати лет, начал буквально разваливаться на глазах. Я знал, что этим кончится, еще в тот день, когда пустил к себе тех трех дамочек. Следом за бутылками посыпались все кружки и стаканы, что были в доме, а за кружками и стаканами — висячие лампы. Я сперва подумал было, что это джавак, хотя этих смерчей в наших краях не бывало с тех пор, когда Россет был еще маленьким. Но когда два стекла вылетели наружу — не внутрь, а именно наружу, — как будто их там и не было, и полки за стойкой начали отваливаться, протяжно скрипя старыми гвоздями, прочно засевшими в старых досках, я понял: это не джавак. Пивные насосы стонали и шатались у меня под рукой, норовя вывернуться из гнезд. Старые ржавые доспехи, которые я приколотил к стене, чтобы их не сперли, принялись летать по залу, точно болты из самострела. Одним таким зашибло торговца шкурами из Деварати, но, по-моему, он оклемался.
Землетрясение? Землетрясение?! Да пол даже не шелохнулся! Мои клиенты — те, что были в сознании, — попадали на пол и лежали, цепляясь за него ногтями, словно ящерицы за стену, а вокруг летали скамейки, осколки стекла и перевернутые столы. Полминуты — и я единственный во всем питейном зале остался стоять на ногах, хотя меня не поддерживало ничто, кроме возмущения. Потому что я-то ни на миг не усомнился в том, откуда все это разорение. Бури, вулканы, разгневанные боги — все чушь! Причина, проклятая причина всего этого бардака была у меня над головой, всего в нескольких дюймах, и я уже бросился туда, хотя со стороны могло показаться, что я стою на месте. Я просто ждал, пока мои ноги догонят мою ярость.
Тут в дверь со двора ввалился Тикат. Он пригибался, чтобы не упасть. Когда я вышел из-за стойки ему навстречу, я почувствовал себя крохотной лодчонкой, которая пытается отчалить от берега в бурю. Тикат что-то орал и указывал наверх. Я его не слышал из-за грохота, но и так понял, что он спрашивает про свою безумную Лукассу. Я покачал головой и крикнул в ответ:
— Где этот чертов мальчишка? Ты мальчишку не видел?
Он не потрудился ответить. Он пробежал мимо, наступая на клиентов и доспехи, оскальзываясь в лужах эля и вина. К лестнице. Я вскарабкался по лестнице следом за ним и отпихнул его с дороги, прежде чем мы добрались до площадки. Нет, эту дверь никто, кроме меня, взламывать не будет!
Даже внизу, в питейном зале, было достаточно плохо. Окна вылетели, но на меня все равно навалилась такая тяжесть, что я чувствовал себя, как под водой, когда все нырял и нырял за Лукассой. Я даже задержал дыхание, боясь захлебнуться, и раздвигал воздух руками, пробираясь вперед. А сверху дул жаркий, вонючий ветер, и нас с Каршем мотало от стены к перилам, а ступеньки разлетались у нас под ногами. Казалось, мы вовсе не продвигаемся вперед — точно птицы, которые летят навстречу буре, и их медленно сносит назад, и хорошо, если не слишком далеко. Долго ли это продолжалось — сказать не могу.
Теперь я думаю — я сказал «думаю», — что тогда бы я, наверно, сдался, если бы не Карш. Не то, чтобы он хоть раз оглянулся на меня после того, как отпихнул меня в сторону, не говоря уже о том, чтобы подбадривать. На самом деле один раз он даже оступился и рухнул на меня, и тут бы мы оба и покатились вниз по разлетающимся в щепки ступенькам, если бы мне не удалось поймать его и одновременно устоять на ногах. Но этот громогласный толстяк ни разу не дрогнул и даже не оглянулся. Он нагнул мясистую шею, сгорбил плечи и пробивался вперед, отдуваясь и бранясь, навстречу ветру. Я шел следом, прячась у него за спиной и не понимая, что гонит его вперед. Потому что это ведь был Карш, вы же понимаете. Был бы кто другой на его месте, я бы понял, но Карш…
На площадке он приостановился и встряхнулся. Я увидел его лицо, побелевшее от гнева, который накатывает на Карша, когда все идет не так, как ему хотелось бы. Голубые глаза потемнели, сделавшись почти лиловыми, и он до крови закусил нижнюю губу. А потом помчался дальше по коридору, заполненному сыплющейся штукатуркой, клубами пыли и визжащими постояльцами. Постояльцы расталкивали друг друга, ломясь к лестнице. Меня почти сразу сбили с ног, но я сумел откатиться в сторону и подняться на ноги, переступив через упавшего человека в фиолетовом халате. Коридор гремел и ходил волнами, как те железные листы, с помощью которых бродячие актеры изображали гром. Я заслонил лицо руками и принялся пробираться к двери комнаты тафьи.
Карш был уже там. Сперва он колотил в дверь кулаками. Потом покрутил ручку, попинал дверь ногами и, наконец, принялся бросаться на нее с разбегу. На то, чтобы орать, у него уже не хватало дыхания — я слышал, как он тяжело хрипит, впечатываясь в толстые старые доски. Когда дверь наконец подалась и мы с размаху влетели в комнату, я оказался на шаг позади.
В дальнем конце комнаты не было ничего. Пустота. Нет, вы послушайте, не перебивайте. Послушайте меня. Пустота была пастью: видно было, как ее края кривятся и сходятся, точно губы. Пасть уже начинала закрываться, и оттуда дул гнилой ветер. Далеко впереди — или далеко внизу, — виднелась яркая-яркая искорка. Она падала в пустоту, отважно сияя. Я понял, что это было.
Лукасса стояла ко мне спиной, рядом с пустой кроватью. Там были и другие, но я видел только ее. Когда мы с Каршем вломились в комнату, она не оглянулась на шум. Она пошла вперед, к этой черной пасти, которая закрывалась все быстрее. Шаги Лукассы были легки, как тогда, когда она выходила мне навстречу. Она не бежала, но сердце и глаза ее стремились вперед. Она исчезла в пустоте прежде, чем я успел ее окликнуть; и прежде, чем я успел прыгнуть туда сам, пустота захлопнулась и исчезла — осталась лишь осевшая, рушащаяся стена крохотной комнатенки, заполненной звуком ее имени.
Я не Лукасса.
Я никто.
Кто может миновать врата смерти дважды? Никто. Я — никто. Я прошла эти врата, и они меня подождали. Они не хотят ждать, но я их заставлю.
Холодно, холодно, холодно, как в реке. Кто-то звал — зовет меня, далеко позади, на краю Лукассы. Но я тогда не была Лукассой. Я — рисунок, который соскребли, нарисовали заново и опять стерли. Далеко впереди — звезда. Звезда поет, обещает сказать мне мое имя, со временем, если я ее догоню. Быть может, я здесь — я была здесь — именно за этим? Надо спешить. Спешила ли я?
Смерть — нигде, выстланное молниями. Я помню. Под ногами — холодное нигде, но я шла быстро, потому что помню дорогу. Кругом лица, и прежде были лица, плавающие во тьме между мной и звездой. Когда я умру в первый раз, я увижу те же самые лица.