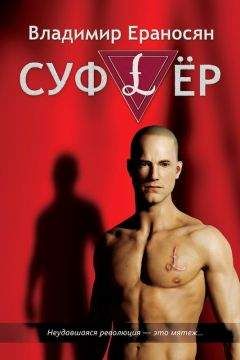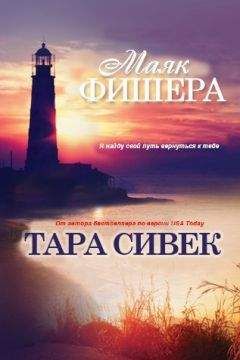И, в самом деле, чем же еще ее можно заменить? Не жизнью же.
Не-жизнью.
— Мир тебе и твоему дому, благородный Хасан, сын Намика, — сказал мертвец на идеальном фарси. — Итак, ты видишь. Значит то, что мне рассказали о тебе — правда.
— Ты знаешь мое имя, — ответил Хасан на том же языке, — я не знаю твоего.
Коран велит отвечать на приветствие еще лучшим приветствием, но он не собирался желать мертвому мира.
— Я Омар, — старик не добавил к этому ни имени отца, ни названия местности, где он родился или жил, ничего, что отличило бы его от сотен других. Может, у мертвых были свои правила? — Джинны сказали мне, что ты способен видеть больше, чем обычные люди, и не солгали — ты понял, что я мертв, не так ли?
Разве кто-то мог не понять этого? Да одного взгляда на Омара было достаточно, чтобы увидеть… что? Хасан смотрел, и сам себе не мог объяснить, что же выдавало в Омаре мертвеца. Он ничем не отличался от живых. Он выглядел как осман, был одет как осман, говорил на фарси как осман… как хорошо образованный осман благородного происхождения. И все же был очевидно и несомненно мертв.
— Особый талант, — сказал старик, — один из тех, которым наука лишь недавно начала искать объяснения.
— Такой же, как предсказывать будущее или быть ходячим мертвецом?
— Не совсем. Таким, как я, не-мертвым, вампиром, может стать любой, но отнюдь не любой способен понять, что я такое.
Омар сказал о себе «что», а не «кто», и это холодом отдалось в позвоночнике. Хасан не боялся ночного гостя, ни на миг в сердце не закралось страха, но он ясно увидел свою судьбу — приняв предложение Омара, предложение, которое еще даже не было сделано, он неизбежно и навсегда будет обречен говорить о себе так же: «что я», а не «кто я».
— И отнюдь не любой может видеть и слышать маридов и джиннов, — продолжил Омар. — Это и есть тот дар, из-за которого они выбрали тебя и поручили мне поведать о твоем будущем. Духи при всем своем могуществе все хуже понимают мир людей, им все сложнее существовать здесь, и они нуждаются в посредниках, в тех, кто сможет помогать им здесь в делах обыденных в обмен на услуги и помощь в областях, пока не познанных земной наукой.
Духи? Посредничество? Не познанные земной наукой области? Омар говорил о волшбе, о магии, о том, чего не существовало. Хасан в жизни не видел ни одного джинна. Даже в детстве, когда мать рассказывала ему сказки, в которых в изобилии водились и джинны с маридами, и ифриты, и гули, разорители свежих могил, ему ни разу не привиделось ни одной твари, чистой или нечистой. Не хватало воображения. Воображения не хватало даже на то, чтобы бояться этих сказок. В своих играх они с братьями сражали саблями сотни врагов, и не уступили бы ни джинну, ни ифриту, ни, тем более, жалкому гулю. Не иначе, гули, ифриты и джинны, это чуяли, вот и не спешили явиться.
Но скепсис не позволял спорить с реальностью, а реальностью был Омар, назвавший себя вампиром. Незнакомое слово, которое нужно запомнить.
Выучить и запомнить предстояло многое.
Для посредничества между духами и людьми не обязательно было умирать. Не обязательно становиться вампиром. Духи с большей охотой вели дела с мертвецами, чем с живыми, но это был лишь вопрос предпочтений. Если бы Аллах отвел Хасану более долгий срок, если б суждено было дожить до старости, Омар дал бы ему афат на исходе жизни. Не потому, что духам удобней с мертвыми, а потому, что посредники нужны всегда, их нужно все больше, и терять хотя бы одного из-за такой нелепости, как конечность человеческой жизни — неоправданная расточительность. Сам Омар дожил до восьмидесяти, его ратун Айшат — вампир, сделавший его вампиром, — получил афат на шестьдесят шестом году жизни.
Для посредничества между духами и людьми не обязательны были молодость, сила и умение владеть оружием.
Но для Хасана речь с самого начала шла о тридцати годах. И за четырнадцать лет, прошедших с той ночи, когда Омар впервые пришел в его дом, чтобы предложить смерть, до той ночи, когда Хасан пришел в дом Омара, чтобы умереть, ему пришлось научиться всему, на что при других обстоятельствах ушла бы целая жизнь.
Он учился быть вампиром, учился быть посредником, и учился быть человеком. Мужем, отцом, главой семьи.
Османская Порта продолжала воевать, а Хасан оставался османом, оставался воином, как его отец, как его братья, как все его предки на много колен назад. От войны к войне, с редкими отпусками. Хансияр растила сыновей одна, так же, как когда-то Хасана и братьев растили их матери, пока отец воевал. Таков был порядок вещей, неизменный и правильный. Хочешь себе другой судьбы — родись в другой семье. Хочешь другой судьбы своей любимой — не женись на ней.
Отчасти это помогло… подготовиться. К тому, чтобы оставить их — Хансияр, Намика и Сабаха. К тому, чтобы приглядывать за ними издалека, заботиться о том, чтобы они ни в чем не знали нужды, и не давать знать о себе. Но как не хотелось умирать в тот год, когда пришло время! Потому что войны закончились. И духи уверяли, что для Порты… для Турции войны закончились надолго, на многие и многие десятилетия. Начиналась жизнь, в которой все должно было измениться для всех османских семей (к тому времени османы уже почти научились называть себя турками), жизнь, о которой еще десять лет назад никто даже не думал, потому что нельзя жить и не воевать, пока ты можешь держать в руках оружие.
Солдаты, прошедшие сквозь череду сменявших друг друга войн, возвращались домой, чтобы остаться с женами, остаться с детьми навсегда, до старости, до смерти.
Но смерть и старость не всегда идут рука об руку.
Верил ли Хасан в тот срок, что назвали духи? Верил ли, что тридцать лет — предел его жизни? Нельзя сказать, чтобы у него был выбор. Он проверял. Пока был моложе. Глупее или… хм, глупее. Уж что-что, а война предоставляет достаточно возможностей выяснить, не суждено ли тебе умереть прямо сегодня, завтра, на следующей неделе. Конечно, не умереть до тридцати — не то же самое, что не пережить тридцатилетие. Но это зависит и от того, как не умирать. Если вызываться на самоубийственные задания, брать на себя смертельные миссии, рисковать жизнью — ладно хоть рисковал по делу, потом не так стыдно было вспоминать — довольно быстро можно убедиться, что смерть ходит стороной.
Отец гордился им, братья пытались подражать, мама и Хансияр, обе, делали вид, будто верят в его бессмертие. Чего им это стило? Тогда Хасан не думал об этом, и оправданием подобному легкомыслию было, наверное, лишь то, что никто из мужчин никогда не думал о том, скольких седых волос стоят их подвиги матерям и женам.