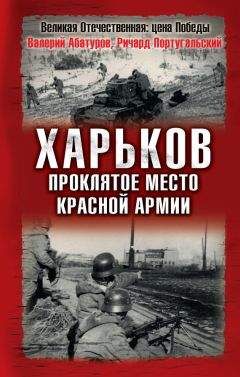– Н-не надо… п-плыть. Вода холодная. Оч-чень, – сказал Ганс. Он попытался вложить в эти слова всю силу своего убеждения, хотя и знал, что вкладывать ему особо нечего.
– Ты что, совсем дурак? Мы поплывем на лодке! – вспылил Клаус, заикание Ганса его раздражало.
– И г-где ваша лодка?
– Мы ее сделаем. Сейчас. Для четверых мужиков это не задача! – убежденно сказал Глоссер.
– Н-на меня н-не рассчитывайте…
– Не дури. Иваны пленных не берут.
– Т-так даже лучше.
Оказалось, они еще с вечера, когда погибла под бомбежкой их санитарная автоколонна, решили выдолбить лодку из ствола дуба.
Такую лодку – она называлась пирогой – Клаус видел однажды в английском музее, в той части экспозиции, где над саблезубыми ожерельями скрещивались с бивнями мамонтов каменные топоры и палки-копалки. Там, возле намалеванного косматого костра, хлопотали хозяева этой щербатой громадины – восковые фигуры бровастых, похожих на горилл, первомужчин и первоженщин, мало общего имевших с благолепными Адамом и Евой с церковных росписей.
У Хорнхеля имелся отличный топор.
– Мы ее выдолбим вот этим топором, – объяснил фельдшер. – Сядем в нее, все вчетвером. И просто переправимся на тот берег, к нашим, пока русских здесь нет. Лодка нас спасет!
– С-с-спасает т-только Б-б-бог! – угрюмо сказал Ганс. – А лодка н-на воде держится…
И добавил:
– Х-хочу умереть.
"Хочу умереть" стало для Ганса чем-то вроде откровения.
Это как в школе на арифметике. Решил задачу про двух кавалеристов, один из которых движется в Рейхенау с такой-то скоростью, а второй из Рейхенау с сякой-то, все сошлось, ответ правильный. Какая радость, господин учитель!
Если умереть равно не жить, значит, именно этого ему больше всего теперь и хотелось – не жить.
Когда пил из фляги – он еще сомневался. А потом и сомнения ушли. Пусть делают лодку, плывут хоть куда. Он, рядовой Бремерфёрде, останется на этом берегу. И будь что будет.
Ганс взобрался на ствол выкорчеванного недавней бурей великанского дуба, который тянулся сквозь камыши к стремнине, словно надеялся когда-нибудь дослужиться до моста. Прошел по стволу вперед, для равновесия расставив самолетиком руки – как по гимнастическому бревну. Камыши сомкнулись за его спиной, ствол медленно истончался к вершине и вот уже упруго хлюпала вода, когда он, придерживаясь за сучья, легонько подпрыгивал на месте.
"Сюда бы удочку", – с тоской подумал Ганс.
От вершины поваленного дуба открывался мир: подернутые густеющей моросью речные дали, бронзовые шапки осенней листвы, дымный, громкий огненный ад по правую руку…
Ганс извлек спички, сигару, отрезал сигарный кончик перочинным ножом и, опершись сутулой спиной о торчавшую под острым углом к воде ветку, прикурил.
Теперь он полулежал, буржуазно отведя в сторону руку, а между тонких его пальцев – у Ганса были тонкие пальцы, да и сам он был словно смычок – как между сухих сучьев вился плющом табачный змий.
Вот с полных губ Ганса сорвался ажурный дымный бублик, ветер подхватил его и уронил на воду, походя коснувшись эфемерным краем палевого крыла дикой утки. И в миг соприкосновения субстанции водной с субстанцией дымной рябенькое утиное тело словно бы увеличилось, запылало белым пламенем.
Близорукий Ганс не видел этого – запрокинув острый подбородок, он смотрел в небо, которое, как глаза покойника, ничего особенного не выражало.
Лишь когда утка выбралась на раздвоенную оконечность древесного ствола (по нему уже воды катились, дальше – глубина) и, валко прошлепав пару шажков в сторону Ганса, обратилась девушкой, Ганс спустился с небес на землю.
Нужно сказать, утиные метаморфозы заняли меньше минуты. И стороннему наблюдателю, этому вечному скептику, мог бы даже привидеться некий банальный обман с переодеванием. Будто бы не утка превратилась в девушку, а девушка, гуттаперчево согнувшись в три погибели, сначала надела на себя водонепроницаемый костюм с наклеенными рядами перьев, бутафорскую шею и тут только что плавала, а после выкарабкалась на дубок и, отбросив тряпье и ласты, распрямилась, увеличилась и предстала нагой.
Ошарашенный Ганс закрыл глаза. Снова открыл.
Как будто зрение улучшилось. Он видел гостью отчетливо, до самой малой родинки на ключице. Словно и не терял никогда очков.
Красавица. Немыслимая красавица какая-то. Убранная восково-белыми и густо-синими цветами головка, жемчужные волосы до самых лодыжек, под тонкими бровями сияют нежным холодом глаза-сапфиры, а может – глаза-топазы, в зависимости от того, на что она смотрит, а взгляд такой нездешний, умный. Рисовать бы и рисовать эту крутую линию носа, эти правильные глянцевые губы, которые не целовать хочется, но любить безответно… Нет, лучше снимать такую фильмовым аппаратом, чтобы потом, в бархатной утробе залов, любовались усталые люди этой дивной длинной шеей, покатыми плечами кинодивы, налитыми грудками юной одалиски. Какая же ты стройная, матовая, молочная, белая, о, господи. О, Господи.
– Как твое имя?
– Царевна-Лебедь.
– Лебедь – фамилия, а Царевна – имя?
– Неправильно! – прыснула со смеху красавица. – У меня нет фамилии. Царевна – это титул. А Лебедь – это то, чем я в действительности являюсь.
– У тебя совсем нет имени?
– Нет.
– Плохо без имени. Непонятно, как… ну, например, молиться за тебя, – вздохнул Ганс.
– Можешь молиться за Аленушку. "Ганс и Аленушка" – неплохое название для сказки.
– Значит, Аленушка… Ты русская?
– Да.
– Откуда ты знаешь немецкий?
– Я не знаю немецкого.
– Но тогда на каком языке мы сейчас говорим?
– На всеобщем языке. На том языке, на котором все понимают всех.
– Ага, – кивнул Ганс. Он только сейчас заметил, что перестал заикаться. Очень странное, хотя и знакомое, церковное ощущение. Как будто во рту вырос новый язык – взамен старого. – Кстати, откуда ты знаешь, как меня зовут?
– Я слышала, как твои братья, – девушка кивнула в сторону берега, где за кулисами из камышей, ветл и вербы остервенело работали топором, – называли тебя Гансом.
– Они мне не братья. И даже не товарищи.
– Все люди братья. Все лебеди братья.
– Послушай, Аленушка, ты ведь, наверное, русалка? Угадал, да? Наши немецкие поэты много про вас писали – баллады разные, стихи.
– Нет же! Я не русалка, а лебедь, – отвечала девушка, как показалось Гансу, сердито. – Русалки – они ведь утопленницы, у них зеленая кожа, они пахнут тиной, дохлой рыбой. У русалок вздутые животы, отвисшие пустые груди. Русалки – лукавые и злые срамницы, чреслобесием одним живут. Видать, тем и любезны поэтам.
– Наши немецкие русалки совсем не такие! А впрочем… Знаешь, я все равно в нечисть не верю! – признался Ганс.

![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)