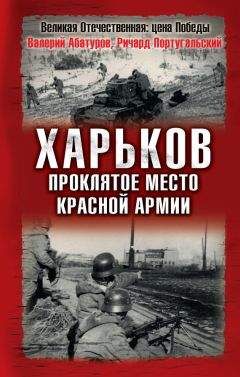– Он был не солдатом, а царевичем.
– Ого! Царевичем!
– Я полюбила его, а он меня обманул и бросил брюхатой. После него я очень долго никого не любила.
– Долго – это сколько? – Ганс знал, что часто женщины говорят "долго", имея в виду три дня.
– Где-то лет пятьсот.
Ганс присвистнул.
– А потом?
– А потом я увидела тебя. Ты сидел у воды, пускал изо рта дым и плакал. Я внимательно на тебя посмотрела и поняла: ты плачешь не потому, что боишься умереть. Но потому, что тебе жаль тех, кто боится. Всех вообще жаль – и братьев, и кавалериста, который выехал из Рейхенау, и даже того, который в Рейхенау только собирается. Раньше я никогда не видела мужчин, которые не хотели бы жить из-за того, что им жаль всех. Царевич, которого я любила раньше, он вообще никого не жалел. Если я и могу представить того царевича плачущим, так это только если бы он вдруг лишился своей казны. Или если бы умер его сын.
– У него был сын?
– Даже три сына! И еще жена. И палаты белокаменные, дев без числа, много золота и толпа бояр. Министров по-вашему.
– Какой же он после этого царевич? Он, получается, царь, – поразмыслив, произнес Ганс.
– Верно, царь. Он меня обманул, когда сказал, что царевич.
– А ты?
– А я его убила.
– Убила? Разве можно так?
– Нельзя… наверное, – неуверенно отвечала Аленушка. – Но ведь он душу мне покалечил! Белые, ладные лебединые перья смыла с меня, с калеки, мачеха моя река, а вместо них выросли у меня, горемычной, новые перья, утиные. Бедные и некрасивые.
– Не пойму, как хрупкая девушка может убить сильного бородатого русского царя, – с сомнением покачал головой Ганс, ему сразу вспомнится Rasputin из скверного довоенного фильма. – Тем более, раньше ведь не было никаких пистолетов! Сочиняешь ты, Аленушка. Наговариваешь на себя.
– Нет, послушай же! После того как царевич обесчестил меня и бросил брюхатой, ему стало стыдно. Он не мог даже спать ночами – стыд, как крыса, грыз ему печень. Однажды он до того намаялся, что пришел сюда, на берег. Было новолуние, суббота. За спиной у царевича висел лук, на боку – колчан отравленных стрел. Он хотел застрелить меня. Думал, коли сживет меня со свету, ему станет легче. Когда я смотрела на его злое лицо – он прятался как раз за тем дубом, что срубили твои братья, – мне было так больно, как никогда не было в моей жизни. Я ударила хвостом, превратила его в утенка и заклевала до смерти.
– Страшные вещи ты говоришь, Аленушка.
– Ты сам попросил.
– Скажи, а почему ты мне открылась? Ведь я совсем даже не царевич, – Ганс улыбнулся надтреснутой стариковской улыбкой, которая наготове у всякого мужчины, считающего себя ничтожеством.
Аленушка сдвинула свои царственные брови, задумалась и наконец решительно выпалила:
– Я хочу, чтобы ты полюбил меня так, как никогда не любил тот царевич.
– Так не бывает, Аленушка. Невозможно полюбить по первому требованию.
– Это обычных женщин невозможно. А меня – запросто.
С этими словами Аленушка распахнула свою палевую шубу из перьев и Ганс увидел ее стройное обнаженное тело, скроенное развратнику на погибель. Кожа матово блестела в лунном сиянии, соски задорно напряжены, как у девушек с похабных открыток, что продавал из-под полы случайный приятель Ганса, полячишка по имени Яцек, он еще работал в магазине готового платья… Внезапно Ганс почувствовал, что Аленушка не преувеличивала. И что в крови у него есть уже любовь к ней, живучая и смертельная, как какая-нибудь холера.
– Только… Не понимаю я. Зачем такой красавице неумелая моя любовь?
– Может, твоя любовь снова сделает меня лебедем?
– Да возможно ли…
– В тебе есть то, что я в несчастьях своих растеряла – чистота, чувствительность и строгость, – объяснила царевна. – Лебедю без этих качеств никак нельзя!
– Да не мои это качества, Аленушка. Это немецкое… Можно сказать, подарок фатерлянда. Не знаю, как объяснить…
– Да что объяснять! Ты со мной поделись. Вот и все.
– Ганс, говнючье отродье, ты где? Хватит праздновать лентяя! Пора работать! – прорычал Клаус.
Судя по звукам шагов и хрусту валежника, эталон арийской расы неумолимо приближался к уютному ельнику, который Ганс и Аленушка избрали себе пристанищем. Там, под сенью высоких черных дерев, было так покойно Гансу, как не бывало даже в детстве, когда он, сбежав с постылых уроков, прятался в церковной голубятне.
– Ганс, ты где? – не унимался Клаус, его голос звучал испуганно.
– Имейте с-совесть, – громко сказал Ганс и посмотрел на часы. Их фосфоресцирующие во тьме цифры выглядели не просто козявками, но некими тайными константами мрачного магического ритуала – Ч-часа еще не прошло! С-сейчас очередь Глоссера!
– Глоссеру плохо. У него рана открылась. Хорнхель зашивает, – Клаус остановился на поляне и упер руки в бока.
– Все равно. Д-дайте передохнуть!
– Ты тут, что ли? Ты меня видишь? – спросил Клаус, яростно всматриваясь в черноту. Он даже на карачки встал, из-за чего его круглое упитанное лицо с носом-кнопкой приобрело сходство с мордой азиатского волкодава. – Так видишь или нет?
– Вижу, – ответил Ганс после долгой паузы
– А я тебя не вижу. Ты что там, сапоги, что ли, моешь?
– Н-нет, – натужно сказал Ганс. И покраснел.
– Спишь?
– Да н-нет же, Клаус. Прошу тебя. Уйди, – в голосе Ганса звучали бессилие и мольба.
– Нет, ну правда, меня любопытство мучит. Может у тебя там не только сигары, но и бутылка шнапса припрятана? Не верю я, что в такую ночь можно просто так от костра уйти.
– Я же т-тебе говорю, я с девушкой.
– Сказки для детей побереги.
С этими словами Клаус, чьи глаза уже достаточно привыкли к темноте, раздвинул пушистые еловые лапы и…
– Добрый вечер, человек, – медленно сказала Аленушка, глядя на гостя в упор. Она плотно запахнулась в свою шубу, подобрала под себя ноги, выпрямила спину (ну просто не лебедь, а кобра, выныривающая из мешка индийского заклинателя, – удивился Ганс) и подняла подбородок. Ее глаза стали цепкими и безжалостными, взгляд – пронизывающим, как северный ветер.
"Сразу видно что царевна."
Грациозно подавшись вперед, Аленушка протянула Клаусу руку для поцелуя. А Клаус, влекомый не то властью этикета, не то личной гипнотической силой царевны, запечатлел на ее костистой руке старообразный, как будто из романа о Вертере украденный, поцелуй. Безумно и странно все это выглядело. Ведь Клаус по-прежнему стоял на четвереньках.
– Ах, милый Клаус, – сказала Аленушка с холодным жеманством. – Неужели вы намерены вновь похитить у меня моего дорогого жениха? Переведи-ка ему, милый, – добавила она вполголоса, обращаясь, конечно, к Гансу.

![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)