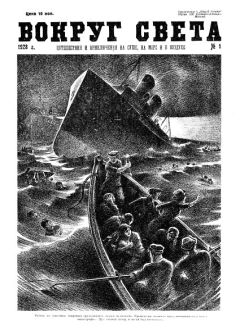— Разбежались они, — просто сказал Стёпка. — Демонов они шибко боятся.
— А Щепота?
— И он разбежался. Даже посох свой потерял.
Брежень хмыкнул в усы и толкнул легонько Стёпку к костру:
— Тогда, мыслю, до утра они нас не потревожат.
Небо ещё и не думало светлеть, поэтому Стёпка привычно забрался в повозку, устроился поудобнее — и не смог заснуть. Перед глазами назойливо мелькали разбойничьи рогатины, скрюченные руки Щепоты, недобрая ухмылка Деменсия и отравленные стрелы гномлинов. Болело помятое горло, болели руки и ноги и даже спина. Победа не радовала. Всё случилось слишком быстро и обыденно. Враги, конечно, разбежались, но до Стёпки вдруг дошло, что разбежались они не все, что непременно будут и другие, и будет их немало, и придётся с ними со всеми как-то справляться… И Полыня непременно придумает ещё какую-нибудь подлянку… Встретить бы его и показать бы гаду, как он крупно ошибся, возжелав заполучить демона.
Два проведённых в Таёжном улусе дня, до предела насыщенные не самыми весёлыми событиями, заслонили всю прошлую жизнь, и она — такая спокойная и обычная — стала казаться теперь ненастоящей, придуманной, далёкой-предалёкой. А настоящая была здесь, в этой повозке, в этом лесу, под этим небом. Она пахла свежим сеном, дымом костра и медвежьей шкурой. От неё болели руки и сводило мышцы на ногах, и что-то неприятно кололо кожу на груди…
Стёпка уже решил, что так и будет ворочаться до самого утра, но сон незаметно подкрался к нему — и он уснул, не успев додумать какую-то показавшуюся ему очень важной мысль.
Глава четвёртая, в которой демон сражается с оркимагом
А утром вновь потянулась дорога, неспешная и размеренная, с привычным уже скрипом колёс, с привычными ухабами и взгорками, насквозь пропахшая терпкими запахами летней тайги.
О бурных событиях минувшей ночи напоминали только синяки на шее да расщепленный стрелами борт повозки. Однако часа через два, когда обоз, поплутав меж скалистых теснин, выкатился на весёлые, праздничные луга, сплошь поросшие васильками и ромашками, Стёпка обнаружил ещё одно напоминание о ночном бое.
Сначала его внимание привлёк некий посторонний звук, примешивающийся к монотонному поскрипыванию колёс. Какое-то поскрёбывание в том углу, где лежала его котомка. Когда звук повторился, Стёпка решил, что это безобразничает мышь, учуявшая что-то вкусное и прогрызающая котомку в надежде добраться до бесплатного угощения.
Он склонился над котомкой и рывком приподнял её, ожидая увидеть маленького испуганного грызуна… Но там была не мышь, совсем даже не мышь. Там было такое, что он непроизвольно швырнул котомку на место, чтобы поскорее закрыть то… это… непонятно что такое.
— Блин! — сказал он. — Не может быть!
Он опять приподнял котомку — уже осторожнее! — и увидел то же, что и в первый раз. Чешуйчатое тёмно-зелёное тело, длинная шея, ещё более длинный подрагивающий хвост, аккуратно сложенные на спине изумрудные крылья. Головы не видно: она спрятана под крылом, зато очень хорошо видны лапы, почти такие же, как у ящериц, но крупнее. И оно… размером с небольшую кошку и всё опутано ремешками. Забилось в угол повозки, притаилось, только задняя лапа неловко скребёт по доске. Этот звук и привлёк Стёпкино внимание.
— Кого нашёл, Стеслав? — оглянулся пасечник. Прищурился, протянул без удивления. — А-а-а, дракон. Выкинь его в кусты. Ночью, верно, угодил, когда Брежень гномлина сшиб. А дракон, глянь-ко где притаился. Он не подраненый?
— Да, вроде, не похоже.
— Ну тогда выкинь его, выкинь. Да не бойся, он не кусается.
— Дракон?! — не веря, переспросил Стёпка. — Это дракон?
— Ясно-понятно, дракон, — кивнул тролль. — Лошадка гномлинская. Али ты не знал? Неужто у вас драконы иные?
— Да у нас их вообще нет, — сказал Стёпка, жадно разглядывая дракончика. — В сказках только… А я думал, что все драконы большие, а он какой-то совсем крохотный.
— Этот-то ещё большой, — возразил тролль. — Его, видать, гномлины демоникой да молоком откармливали. А дикие драконы — те гораздо мельче.
Вот так сюрприз! Ну и ну! Стёпкино разочарование не поддавалось никакому описанию. Он-то мечтал увидеть настоящих драконов. Огромных, страшных, огнедышащих, на которых можно летать, с которыми не каждый рыцарь отважится сразиться. Могучих повелителей неба, величественных и гордых, внушающих священный трепет… А они… А тут… Вот они здесь какие. Лошадки гномлинские. А он тогда решил, что гномлины на нетопырях научились летать.
Дракончик беспомощно трепыхнулся, и стало видно, что его держит. Бедняга зацепился упряжью за расщеплённую стрелой доску, запутался в ремнях, и освободиться сам не мог.
С некоторой опаской склонившись над дракончиком, Стёпка осторожно потрогал его спину. Дракончик был тёплый и приятно упругий. То, что казалось чешуёй, на самом деле было скорее короткими перьями. Он погладил дракончика уже смелее, и зверёк притих, ощутив знакомое прикосновение человеческой руки. Тогда Стёпка подхватил его под мягкое брюшко и выдернул застрявший ремешок из щели. Дракончик был не тяжелее кошки. Он покорно лежал в ладонях, свесив хвост и все четыре лапы, и косился на Стёпку ясным изумрудным глазом. Узкие ремешки плотно охватывали его плоскую голову, шею и грудь, а на спине было укреплено небольшое кожаное седло с высокой спинкой и множеством свободно свисающих ремней. Очевидно, этими ремнями гномлины-пилоты привязывали себя, чтобы не свалиться с дракона во время полёта. В крошечном стремени висел стоптанный гномлинский сапог с отворотами. Сбитый Бреженем гномлин то ли выпал во время боя, то ли удрал позже, пожертвовав ради спасения одним сапогом и собственным драконом.
Дракончик укоризненно взглянул на Стёпку и вдруг обмяк, бессильно уронив голову. Бедная измученная лошадка. Чудо, что осталась жива, что не задохнулась ночью под котомкой. Стёпка сел поудобнее, упёрся ногами в борт и принялся освобождать страдальца от упряжи. Провозившись минут десять, он распутал, развязал, а где и просто разрезал ножом ненужные уже ремни и выбросил их вместе с сапогом из повозки. Освобождённый дракончик трудно дышал и разевал пасть, высовывая алый раздвоенный язычок.
И Стёпка стал за ним ухаживать.
Сначала он предложил ему воды, и дракончик жадно вылакал примерно половину туеска, умудрившись не расплескать ни капли. Потом он съел здоровенный кусок мяса, горсти две сушеной черники, от сыра отказался, соль лизнул, мёд не захотел, а с хлебной коркой расправился быстро и ловко. Он оживал прямо на глазах, хрумкал и чавкал, как заправский свин, раздулся под конец так, что на него страшно было смотреть, и уснул на Стёпкиных коленях.