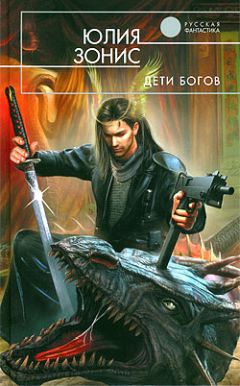Ознакомительная версия.
— Что-то ты, Вульфи, раскис. Бессмертные от старости не умирают. Старина Дьюрин еще попляшет на твоей помолвке.
Ингвульф некоторое время смотрел на меня, ничего не говоря. Потом, наконец, отверз уста и медленно, как бы неохотно произнес:
— Ингве, можно с тобой по-честному?
— Ты что, побратим? С чего ты такие глупости спрашиваешь?
Ингвульф потеребил огненно-красную бороду и — отвел глаза. С каких это пор мой капорежиме не решается смотреть на меня прямо?
— Вот что, князь. Я, когда вы на пару с Ингри тот взрыв устроили, ничего не сказал. Хотя мог бы.
— Я думал, ты…
— Не перебивай, конунг.
От волнения он переходил то на русский, то на шведский, то на родной нахрваз.
— Мог бы сказать, что, каким бы дураком не был ваш папаша, а только он твердо знал: в один прекрасный день ему придется принимать власть. Потому что от преклонного возраста бессмертные, конечно, не умирают, но не может же старик, рожденный еще до того, как Локи прикрутили к скале кишками собственного сына — не может он вечно крутить эту лебедку. И князь Драупнир Темный, хоть и сволочь он был порядочная, это понимал. А вот ты, побратим, не понимаешь или прикидываешься, или просто понять не хочешь. Поэтому я говорю — тогда, в сентябре, я тебе не возразил и не остановил, а зря. И плевать, что сейчас я бы киркой на шахте ворочал, а не посиживал в кресле в красивом офисе. Нахрен мне это кресло и этот офис сдались. И еще скажу — если бы ты понимал наш обычай по-настоящему, вернулся бы сейчас вместе со мной. Разобрались бы мы по-быстрому с делами и домой отправились, и ты бы провел зиму, не шкандыляясь Фенрир знает где, как какой-то, прости Имир, принц Флорентинский, а слушая уроки деда. Потому что, сдается мне, Мастер Ингве, никогда ты к ним особенно не прислушивался.
Если первая часть его речи меня почему-то обеспокоила, то упоминание несчастного принца Флоризеля из уст моего капорежиме звучало настолько комично… Я улыбнулся и накрыл своей ладонью его лапищу.
— Что-то ты слишком много в последнее время думаешь. Что, совсем в Москве не с кем устроить хорошей драчки?
Ингвульф молча убрал руку. Порывшись в своем дипломате, который уместил под столом, он вытащил и бросил на столешницу толстую желтую папку.
— Вот, почитай на досуге. Может, хоть тогда немного одумаешься. И еще — если ты и вправду за этим человеком хочешь гоняться, на одного Нили я тебя не оставлю. Будешь у меня ходить с шестеркой телохранителей, как князю и пристало.
— Ну это уж ты размечтался.
Ингвульф снова посмотрел на меня по-медвежьи. Недаром говорят, что смертные из клана Вульфингов мешали кровь со свартальвами — а Вульфинги, все как один, были оборотнями.
Тем временем капорежиме встал, со скрипом отодвинув стул, и направился к двери.
— Ты куда?
— Пойду, продышусь. А то мне через час обратно в аэропорт, а я в самолете отсидел всю задницу. И выпивка у них хоть и халявная, а мерзкая.
Называется, поговорили. Я проводил его взглядом. Небось, побежал обсуждать с Нили усиление мер моей безопасности. Дай-то Имир, чтобы Нили не растрепался ему про некроманта. Эта мысль так меня озаботила, что я встал и крадучись вышел из бунгало. Не хватало еще, чтобы они вдвоем с Нили ненароком замочили Иамена. Или он их, что тоже вполне возможно.
Однако все тихо было на берегу. Ни криков, ни звуков побоища — ничего, кроме вечной песни прибоя.
К утру электричество в отеле вырубилось. Удовлетворивший нужды плоти Нили счастливо дрых, а у меня сна не было ни в одном глазу. Несчастный администратор, уже, наверное, не раз помолившийся Будде о скорейшем избавлении от беспокойных гостей, снабдил меня большим запасом свечей. Свечи горели весело, но одуряюще воняли жасмином. Я устроился на кровати с папкой. Иамен в своем гамаке нацепил очки и перелистывал страницы уже следующего романа. Скорочтец, блин.
— Интересная книжка? — без особого любопытства спросил я.
Иамен поднял голову от книги и сдвинул очки на лоб.
— Забавный у автора взгляд на мир. К сожалению, даже я, не проживший на этом свете многих эонов, понимаю, как он далек от истины.
— А что есть истина?
— Возможно, истина кроется в желтой папке, которую вы так нервно теребите. Читайте себе. Обещаю не подглядывать.
Что-то я слабо верил его обещаниям. Отвернувшись на всякий случай к стене, я развязал тесемки — и на покрывало обрушился бумажный водопад.
Содержимое желтой папки внушило мне равно оторопь и грусть. Оторопь потому, что я и не подозревал об исследованиях, ведущимися российскими вооруженными силами. Оказывается, у немцев потырили не только бомбу, но и почти все разработки по программе «Вервольф» (в русской интерпретации «Оборотень». В погонах…). Было у меня нехорошее подозрение, что документацию советским шпионам сплавил все тот же вездесущий Скорцени, в конце войны приложивший руку к германским ликантропам, и весьма жадный до чужого злата. Что же касается грусти… посудите сами.
…Мальчик жег белый тополиный пух. Пух вспыхивал, как порох, и сгорал быстро и яростно. Если повезет, от одной спички выгорит вся улица, а то и парочка соседних. Это было его любимой и единственной игрой.
Во дворе его обзывали: вонючкой, пердилой, хилым, байстрюком, пасюком, говнолизоми Рыжим-Бесстыжим. Мать его была уборщицей, скребла подъезды, а в подъездах вечный срач, матерные каракули по стенам, у батареи — лужи: то ли кот нассал, то ли постарались пьяные. В выходные мать, напившись до полного отупения, прижимала буйно-рыжую голову Володьки (она звала его Севкой. Она одна звала его Севкой) к переднику и ревела ревмя. Потом лупила армейским ремнем с большой латунной пряжкой. Иногда, подвыпив, подпирала щеку кулаком и заводила длинное, бесконечное: «Папаша наш, Севка, не фраер какой-нибудь, не инженер в пиджачке чесучевом. Петр Гармовой честный фартовый! Петр Гармовой в законе. Вот выйдет папаша наш с зоны, вину честно искупивши, кровью своей искупивши вину, выйдет и все-ем покажет! Всех к ногтю прижмет!» И так до полуночи, пока кран не зафырчит надменно и яростно. Ночами в южном городишке отключали воду. Отключали и днем, и тогда Володька бегал с канистрами к цистерне или к крану в профилактории. На обратном пути его подстерегали Жмых и Жука, канистру отбирали и переворачивали Володьке на голову. Затем канистра летела в кусты сирени, а мокрый Володька — в другие кусты, по противоположную сторону от вымощенной плитами дорожки. Дома мать драла ремнем за измятую канистру и грязную рубашку.
Материнским рассказам про отца Володька сначала верил, потому что заражался силой веры от матери. Сначала — верил. Потом сомневался. Глядя в мутное, заплеванное зеркало в ванной, из собственных мальчишеских черт пытался выстроить портрет отца. Вот его вихрастые рыжие волосы, а у матери серые, тусклые, плоские под платком — значит, в отца. Вот темно-карие его глаза, а у матери белесые, невские, питерские — опять в отца. Вот облупившийся от загара прямой нос, вот рот, подбородок с маленьким белым шрамом — разбил, когда Жмых и Жука столкнули с лестницы. Жмых и Жука, проклятые. Они на два года старше Володьки. Оба тоже безотцовщина, только у них безотцовщина хорошая, почетная: лейтенант Михальский, отец Жуки, и старший сержант Рябушкин, жмыхов папаша — оба сгинули в Великой Войне. Они — герои. А ты — то ли урки сын, то ли вообще байстрюк. Потому что родился двумя годами позже, в холодном сорок седьмом, и никак — ну никак — не мог твой папаша сгинуть на фронтах Великой. Так что сиди и не рыпайся. Молчи.
Ознакомительная версия.