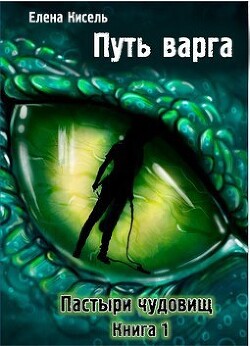– Уна работала над этим, да-да-да. Эта проявилка должна показать, были ли у животного болезни хотя бы в последних пять лет. Мы думали её использовать для животных, у которых рецидивы случаются. Хорошо бы, конечно, до детских болезней…
Время от времени Уну чего-то там осеняет, хоть она и не Травник. И она принимается что-нибудь совершенствовать или изобретать.
Только вот руки у Плаксы отчаянно кривые. Потому жду, пока проявилка взорвётся прямо у нойя в руках.
– Ну?
– Так вот, этот геральдион никогда и ничем не болел. Точно он новорождёный.
Или дохлый. Киваю, отчаливаю.
Успеваю закрыть дверь, прежде чем из-за спины начинает нести тухлятиной сильнее, а нойя взрывается воплем: «Сколько повилики ты туда добавляла?!»
Взрыва нет, только фиолетовый дым сочится в коридор. Ну и ладно. Всё равно Плаксе еще сегодня ночью в поместье разгребаться. Вместо Шипелки.
Эта где-то шастает и не показывается на глаза. Пухлик и Мясник выясняют, что не так с пансионом Линешентов в Тильвии. До моей очереди караулить Орэйга ещё пара часов. Проверяю раненых, кормлю Сквора. Спрашиваю его – кто помрёт.
– Линешент, – выдаёт горевестник. – Линешент. Линешент. Линешент.
– А с утра был вызов, – хвалится Йолла, которая составляла Сквору компанию. – Гроски и Нэйш только ушли, а ты не пришла ещё… ну, я принимала, стал быть. Из Крайтоса вызов. Кербер-людоед, ого?
– Сколько там?
– Да они сами и не знают. Вроде, одного пока то ль погрыз, то ль утащил. А мужик этот, который на вызове, странный такой. Сначала: взрослых позови. Потом: чего эта так трясется, это что, издеваетесь? Это я Уну позвала… Потом: там что у вас, нойя? А Аманда ему: так вы скажите, в чём дело-то. А он такой: нет, буду с главным говорить! А тут принесло Лортена…
– Этому чего тут надо утром?
– Так к Аманде же, за антипохмельным… Лортена принесло, и он в Чашу как засунулся… Эх! В общем, этот дядька, ну, который, староста Белобочья…
– Что?
Свой голос – как из-под покрывала. Мелкая распахнула глазищи – смотрит, удивлённая.
– Деревня так называется. В Крайтосе.
Небольшая такая деревенька. Три десятка домов.
Под боком у имения Драккантов. Напрямик через леса можно за час к имению выйти. И хмурые сосняки со мхами-валунами – как раз как керберы любят.
– Что он сказал?
– Пф, сказал! Заорал! Вы, говорит, все тут твари нехорошие, мне тут устранитель нужен, а вы издеваетесь! Аманда ему: так мы с главой ковчежников свяжемся. Или вы сами её вызовите. А он не слушает и орёт: мне нужен устранитель, вы куда его задевали? Ну, и по матушке нас всех! А Лортен говорит: держите меня все, сейчас я как выдам… И выдал.
Мелкая морщит нос, брезгливо косится на Водную Чашу.
– Мыть потом пришлось.
Приближаться к поместью Драккантов на сто миль не хочется. Но эти олухи могут и напрямик вызвать Нэйша. Или кого-нибудь из Гильдии Охотников. А то ещё поставят капканы, отравы накидают. Может, отпроситься у Грызи? Слетала бы сама в Белобочье, местность-то знакомая. Выследила бы кербера, бахнула б снотворным, потом к Пиратке – и в питомник.
В питомнике осень сухая и многоцветная, возле поместья Линешентов – влажная, снулая. Будто краски высосали. Оставили серый (дорога), бурый (трясина), чёрный (голые стволы и сам замок). Разбавили блекло-слизистой зеленью на камнях да белесым туманом.
Мерзкое место. Сотканное из стрельчатых окон, паутин да шепоточков.
Работать невозможно: в коридоры обитатели местные повыползали.
– У них что-то вроде семейного сбора вечером, – говорит Грызи, когда я её сменяю. – Потому все и приехали. Традиция.
В комнату Орэйга время от времени являются Линешенты. Разных размеров и форм. В древнющих нарядах с пышными воротниками и родовыми узорами-орнаментами.
Засвидетельствовать почтение.
Нам тоже перепадает от всеобщего внимания. Полюбовавшись на белого-пушистого – Линешенты начинают пялиться. И задавать вопросы.
А как он? А скоро ему будет лучше? А лекарство стоит дорого? А болезнь достоверно известна? А мы уверены, что поможем?
Меня топят в сочувствии по поводу моей сиротской доли. И спрашивают, когда свадьба. Одна из Змеюк даже пытается отвести в стороночку и прочитать нотацию о традициях рода. Что род, мол, надо возрождать. Потому что нет же ничего ценнее.
– Имейте в виду – мы ждём приглашения, – и выпускает через зубы смешок – мол, честь оказала.
И не сдвинуться с места, как на поганом светском рауте. Можно только наблюдать. Старший сын Линешентов явно сидит на каких-то зельях. Глава Рода успел найти общий язык с Морковкой. Средний сынок подмигивает мне и выдаёт что-то об очаровательном охотничьем наряде. И тут же стрижет глазами платье Гриз.
Голубица наглаживает живот и воркует с задерганным муженьком. Смотрится как что-то двухголовое. Если бы не оценивающий взгляд красноватых глазок Младшего.
Старуха явно не ладит с зятьями и средним сынком. Мелкие Линешенты – подлые копии взрослых. Вытянутые, поднафталиненные с рождения. С туманно-постными рожами.
И не поговорить. Мы оказываемся свитой дохлого геральдиона. Которого выносят на подушечке на середину комнаты. Умиляются каждому жесту. Прикасаются с бесконечной осторожностью.
Орэйг Четырнадцатый принимает поклонение родовитого семейства с мёртвым достоинством. Лежит. Гладится. Шевелит хвостом. Гадит в лоточек и звонит в колокольчик – вызывая ахи по поводу своей разумности.
Рыцарь Морковка сквозь зубы предполагает, что они оправляют содержимое лотка как минимум в платину. Кажись, он тоже внезапно на взводе.
Даже на время ужина Линешенты требуют перенести геральдическу зверюшку в общую каминную. Чтобы лицезреть геральдиона и за семейными разговорами.
Тут я отправляюсь проветриться подальше от столовой, от каминной и от жилых комнат. Главное – подальше от чёртовой портретной галереи. Хотя в неё, кажись, ведут все коридоры здесь: шаг не туда – и ты в окружении Линешентов в рамах. Темные стены и тёмные лица. Выцветшие одежды. Полинялые улыбки. Пиявчатые взгляды сверху вниз. И белые пятна – геральдионы тут и там. На плече у одного, на руках у другой, все тут, все четырнадцать колен Орэйгов рядом со сколькими-то-там-коленами Линешентов.
Каким-то чудом галерею огибаю, путаюсь в переходах, как в паутине. Соображаю: это коридоры для слуг, узкие, неосвещенные, чтобы проходить по памяти. Но пыль и сквозняки лучше, чем разговорчики и поганые портреты. Всё равно Дар выведет.
Так что иду и пытаюсь надышаться. Пока не понимаю, что камни вокруг меня плачут.
Тихо, со всхлипами, переливаясь и перекликаясь. Будто плач замурован в них много лет. И выходит помалу, как из темницы.
В плаче живёт песня. О том, что скоро всё будет хорошо. И не надо бояться болот. Песня пытается продраться через плач и камень – но они глушат её.
Приказываю Дару – веди. Иду через полутемные коридоры под стрельчатыми окнами. Какое-то нежилое крыло. В окна видны то ли облака, то ли туман. За деревянными панелями и поеденными плесенью коврами – вечерние гулянки крыс.
Плач – там, где пахнет лекарствами. За дверью, похожей на мою.
Комната тоже похожа, только победнее. Камин прогорел. На кровати лежит парень лет шестнадцати-семнадцати. А эта, которая плакала и пела ему, подскакивает на ноги со стула возле изголовья.
Опухшие глаза, чёрные волосы. Рано постарела, потому выглядит старше сорока.
– Вы… доктор? Вас к нему прислали?
Молча поднимаю ладонь с Даром Следопыта – показываю, не доктор. Шагаю внутрь комнаты.
– Что это с ним?
– Он месяц почти не встаёт, – беззвучно говорит Соора, точно, Соора, Голубица говорила – у служанки болеет сын. – Гарлон… господин Линешент был так добр, освободил меня от работы, разрешил с ним сидеть, сколько надо. И врача, да, позвал к мальчику врача. Врач господ Линешентов сказал – это от нервного расстройства.
Парень открывает глаза, глядит мутно. На шее у него какой-то амулет – отметаю ладонью в сторону, прежде чем положить ладонь с Печатью на грудь.