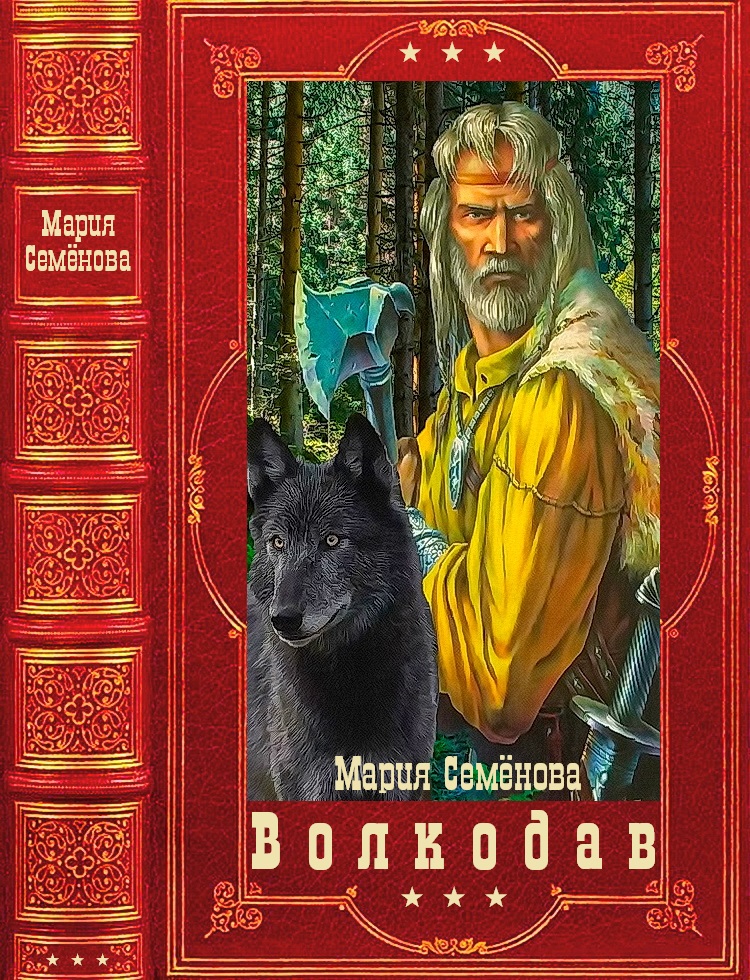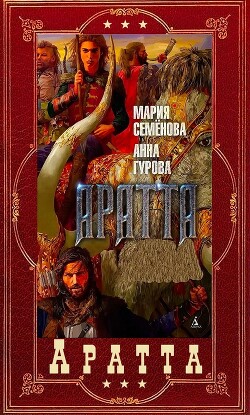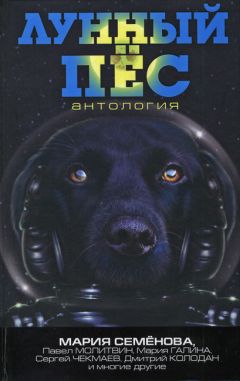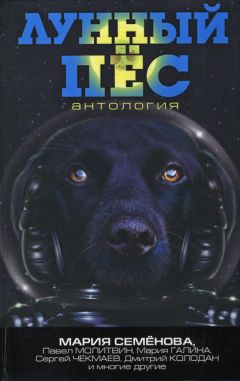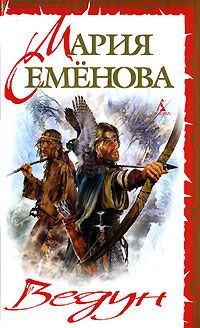не помнила, как выскочила из «Ружи», потом вешала рогожку под Кошачьим мостом. В ушах гудели пьяные голоса:
«Нешто ждёт, что зассы́ха её в боярыни выйдет?»
«От доброго кореня, ха-ха, добрая отрасль!»
«Куда мать, туда и дитя…»
…Непутка посидела немного, потом медленно поднялась. Старая, разбитая в неполные тридцать. Спустилась к берегу. Расширив подол, исправила утреннюю нужду.
Прищурилась, заметила на ерике прозрачный ледок.
Нутро отзывалось глухой болью, мир был чёрным и серым. Даст ли новый день еду и тепло?
За добро, явленное без меры, следует неустанно благодарить. А то приноровишься к дармовому благу, ввадишься числить его каждодневным и вечным – тут же лишишься всего.
Чуть не всякий торговый день с Привоз-острова долетал шепоток, расползался сизым угаром, вещая о страшном. О том, что в дикоземьях Левобережья погасла ещё одна искорка. Уступил, сдался стуже очередной зеленец.
– Слышь, желанный, а люди? Люди-то?
И камень падал с души, когда в ответ слышалось:
– А что им? К соседям перебежали, захребетниками живут. Своим кипунам ленились молитвами порадеть, чужие хвалят теперь!
Порой добавлялись известия о стариках, отказавшихся обременять молодых:
– Благословили детей уводить. С тем остались…
Тут задумаешься, не купить ли тележку. Чтоб в случае чего и отца свезла, и что-нибудь из домашнего скарба.
«Какую тележку! – обрывал себя Верешко, редко выходивший за стену. – Готовить, так саночки…»
…Только не выручат саночки. Вот как всё будет:
– А нашли их, желанные, на полдороге. Мужья жён обнявши, дети малые к подолам приткнувшись…
Улица Третьих Кнутов скоро вывела Верешка на изволок. Отсюда уже был виден Торжный остров в опрокинутом венце туманных столпов.
Стоило бросить взгляд, и сделалось холодней прежнего.
Слишком густой пар от дыхания Верешку не привиделся.
И забереги на протоке не показались.
Там, где срединный и самый мощный городской зеленец граничил с соседними, слабело тепло, и вниз ручьями протекал холод. Обычно он рассеивался, не достигая земли. Курился обтрёпанными рукавами. Моросил дождиком. Уличные певцы называли эти хоботы обломанными зубами мороза. Тщатся, мол, прокусить, ан не могут!..
…Ох, сглазили песнотворцы! Сегодня осадные башни зимы упирались в твердь плотно и основательно. Домов не видно было во мгле, по улицам расползались белые клубы.
Клыки зимы, всегда грозившие городу, достигли и впились. Сжимались, поигрывая…
В прошлую зиму такое видели всего один раз. В эту, получается, уже четвёртый.
Один из белых клыков накрыл кончанскую вечевую площадь прямо на пути Верешка. Сын валяльщика стал озираться, прикидывая обход. Потом заметил людей, которых не напугал холод.
Жрецы вынесли из храмов знамёна, хранимые для праздничных шествий, и совершали молитвенный ход. Заклинали стужу Высшими Именами. Не позволяли наводнить улицы, захватить город.
Бились там, где бессильно никли мечи и стрелы мирян.
Верешко даже приостановился. С изволока было далеко видно и слышно. Из храма Огня несли светочи, и не подлежало сомнению, что первым шагал Твердила, старейшина кузнецов. В молельне Морского Хозяина гудели ревуны; храм стоял на сваях, гул шёл словно со дна. Из обители Внуков Неба долетало пение земляных дудок, звавших на помощь тёплые ветры.
А на вечевой площади Лобка заслоном встали мораничи. Шествие возглавлял молоденький посвящённый, совсем недавно подававший облачения старшим жрецам. В своей мирской семье он был вторым сыном, отчего, сложив прежнее рекло, до сих пор звался Другоней.
В час боренья, когда безнадёжны труды
И враждебная сила нам застит пути,
Материнским платком огради от беды,
Правосудная, чада свои защити…
Голосок у юнца был сиплый и слабый, вчерашний служка то и дело останавливался прокашляться, перевести дух, но глаза поверх тканой повязки светились счастьем служения. Люди за ним шли бодро и радостно: накажи многогрешных, Мать… но не оставь! Да сбудется по воле твоей, по вечному завету между Матерью и детьми!
Жители Лобка покидали дворы, тянулись за благословением. Верешко тоже побежал навстречу молящимся. Вот сейчас богоречивый заглянет ему в глаза, возьмёт руку в ладони… скажет несколько слов… самых истинных и спасительных…
Может, удастся сберечь благодать, отца наделить?..
Не успел. Из переулка на Третьи Кнуты шагнул Люторад.
Под его взглядом Другоня осёкся. Умолк… вовсе остановился. Верные, тянувшиеся за юным жрецом, неволей скучились кругом обоих.
– Тебе кто дозволил? – сквозь зубы, с грозным нажимом прошипел Люторад.
– Богозарный брат… – только и выдавил Другоня, часто моргая. Сразу стало заметно, какой он на самом деле молоденький. Немощный телом. Незрелый в служении. Оба опоясанные жрецы, но какое может быть равенство между вчерашним служкой и сыном святого?
– А что, Божьему человеку за дозволением бегать, прежде чем с людьми Матушке порадеть?
Говорил санник Вязила. Он всегда был важен и горд, а ныне особенно. В его ремесленных вершился спорый труд, полный страха и радости: лучшие делатели источили сани, чтобы царевичу Эрелису ехать на них в отеческий город. Такими, как Вязила, держатся храмовые общины, его на жертвенный пир поди не пусти.
Уличане зароптали, поддерживая Вязилу. Людям не нравится, когда песенный лад рушат за то, что головщик нелюбим.
Люторад, чуть заметно скрививший губы от наглого «брат», не пал до пререканий с мирянами.
– Лучше подумай, как правиться будешь, ночь по улицам бегавши, честной люд соблазнявши…
Другоня вдруг обрёл почву под ногами:
– Ты же и послал, богозарный.
– Я?
– Так в съезжую. Там, в блошнице…
Верешко навострил уши, одержимый дурным любопытством, замешенным на страхе и отвращении. В каморах расправы гостевали захожни и горожане, грешные городской Правде. В торговые дни над площадью исправно посвистывал кнут. Ждали поимки злодея, годного для торжественной казни, но пока достойных не попадалось. Это многих тревожило. Приезд царевича ощутимо близился… а чем встречать?
«Неужели?.. Кого, за что?..»
Увы, блошница и нынче пополнилась лишь буйными мочемордами. Таких казнить – курам на смех! Отрезвить в холодке да вытолкать взашей…
– Это их ты всю ночь на правый путь наставлял?
С каждым осуждающим словом Другоня как будто становился всё меньше.
– Нет, богозарный. Уличное дитя…
– Какое ещё уличное дитя?
– …Поцелуя Владычицы сподоблялось… Прошу, святой брат, возглавь радение верных…
И юнец склонился – низко, повинно, смиренно. Наконец-то додумался передать честь тому, кто достойней.
Люторад повернулся – только ризы плеснули шитым подолом. Люди потянулись вслед, кто ворча, кто обрадованно.
Каждое сердце пусть верой озарится,
Путь обретая сквозь гиблые снега!
Страха не знают повинные Царице,
В прах повергают жестокого врага…
Голос у Люторада был выученный, но выученный хорошо – сильный, победный. Верешко последовал бы за ним, но… молиться молись, а дела держись. Промедлишь –