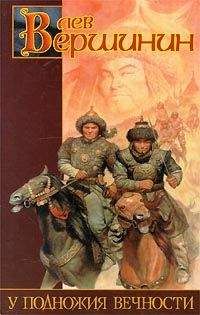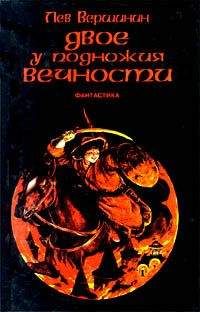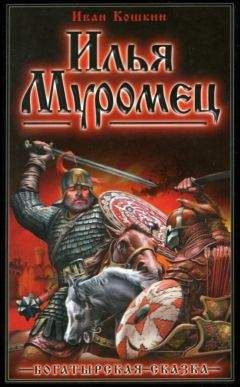Он не стал говорить с ноянами сотен прошлой ночью, когда они потребовали хурала. Ибо не должно подчиненным требовать. Но и отказать в просьбе не мог, ибо хурал разрешен Ясой. Он сказал: «Подумайте день, и если сочтете, что правы, придите – и поклонитесь как должно…»
Они ушли. И пришли к вечеру. И поклонились.
И вот – сидят…
– Несомненно, демоны урусских лесов встали преградой на пути нашей удачи. Но пришло ли время для прощального костра? – внимательно, с надеждой во взоре оглядел Ульджай сидящих. – Пусть каждый скажет, не скрывая. Я жду!
Сотники понимающе щурились. Этот спрашивающий был уже наполовину мертв и сам знал об этом. Воля Бурундая не выполнена, бунчук, присланный им, опозорен, и даже сам темник, пожелай он того, не сможет смягчить наказание. Впрочем, сердце Великого благосклонно к Ульджай-нояну; быть может, он сочтет достаточной шелестящую тетиву, не прибегая к каре железом. Но, сознавали сотники, Ульджай слишком молод, чтобы поступить верно; он хочет жить, хотя сам пока не догадывается об этом. И в этой неумной, безоглядной жажде жизни – источник многих ненужных смертей, неизбежных, если прозвучит приказ снова идти на приступ.
– Говорите же!
Тишина давила, вязким ядом вливаясь в уши.
И наконец сотник-мэнгу, седой и поджарый, чье слово по старшинству было первым, презрительно скривив губы, сказал, не глядя на неудачника:
– Мне было указано: оберечь чжурчжэ-сэчена[64] и оказать поддержку твоему джауну. Сэчена нет, а в джаунах шепчутся по ночам. Пора возвращаться!
– Так, – невозмутимо отозвался Ульджай и перевел взгляд на пожилого кара-кырк-кыза с сабельным шрамом, стянувшим щеку.
– Уходить! – резко бросил тот. – В моей сотне осталось семь десятков черигов!
– Так!
– Демоны лесов очень сильны, но это не смягчит гнев того, кем мы посланы, – заговорил третий сотник, рябой кипчак, известный своей осмотрительностью. – Возможно, духи уже насытились кровью и новый приступ будет удачен, возможно, и нет; а гнев Бурундая страшен… э-э… можно уходить, а можно и не уходить…
Квадратноплечий, с выступающим животом канглы, всего лишь десятник, но лично награжденный Бату, прежде чем высказать суждение, некоторое время размышлял, поглаживая тонкий, свисающий на грудь ус, из-под приспущенных век бросал быстрые взгляды на сумрачные лица соседей.
– Что ж! – проговорил он наконец, – конечно, Бурундай не станет набивать нам рты лукумом; отступление есть отступление. Но и духи есть духи; как с ними воевать? Если останемся, положим людей и все равно уйдем. Лучше раньше, я думаю.
– Так, – очень тихо повторил Ульджай. – Что скажешь ты, ертоул-у-ноян?
Становится так тихо, что отчетливо слышно потрескивание распадающихся угольев. Ертоулы не ходят на стены; если они встанут на сторону Ульджая, жизни сотников не стоят и дирхема. Воины не поднимут сабли на высшего из ноянов. А сломав сотникам спины и обвинив казненных в непокорности, юнец, пожалуй, сумеет оправдаться перед Бурундаем…
– Гх! – ободранным стужей голосом выхаркнул кряжистый богатур, зябко кутаясь в никак не просыхающий тулуп, и к сказанному не прибавил ни слова.
Скулы Ульджая взбугрились.
– Ладно… – уронил он, помолчав. – Довольно. Я понял. Кто хочет сказать иное?
И Тохта, хоть и не водил еще сотню в бой, хоть и лишен пока права говорить на ноян-хурале, подается вперед.
– Я! Я хочу сказать!
– Говори!
– Разве духи лесов сильнее Тэнгри? – на едином дыхании с провизгом выпалил кипчак. – Разве есть ноян лучше и справедливее Ульджая? Мои чериги готовы хоть сейчас идти на приступ!
На краткий миг в воздухе повисла тишина. Но вот кто-то хихикнул в тени, и вслед за этим громовой хохот потряс пропотевшую юрту. Только что хмурые и настороженные, сотники веселились от души, и только Саин-бахши, умудренный жизнью, сумел сквозь дремоту различить в этом смехе ярость и затаенный страх.
Смеялись все: мрачный мэнгу, тучный кара-кырк-кыз, осторожный канглы; беззвучно тряс головой начальник ертоулов, то и дело вытирая кулаком глаза. Только Тохта сидел спокойно, без улыбки, и преданно заглядывал в глаза нояну.
И смех сказал то, что было непосильно словам.
Ульджай вскинул руку и резко опустил, словно саблей рассекая веселье.
– Я вижу, – выкрикнул он, – вы думаете, что Бурундай мог довериться трусу? Вы полагаете, что я брошу вас на стены, оттягивая заслуженное наказание? Внимание и повиновение!
Сотники вскочили.
– Приказываю: готовить все для костра прощания. Завтра мы с почестями проводим павших богатуров. И пусть чериги готовятся в дорогу. От вас же хочу одного: когда вернемся, пусть каждый из вас подтвердит, что Ульджай исполнил долг и заслужил хорошую смерть!
В одно мгновение изменился облик юного нояна, словно тетивные жилы, стягивающие тело и душу, разом лопнули, освобождая воина от смутного ужаса перед неизвестностью.
Теперь Ульджай сидел, жестко скривив губы, напружинив упершиеся в колени руки, и было видно, что грудь его дышит по-тигриному свободно, легко и мощно. И хмурый сотник-мэнгу, кивнув, ответил за всех:
– Внимание и повиновение, ноян-у-ноян!
Когда же сотники вышли, Ульджай повернулся к отцу, и глаза его были сумрачны, но спокойны.
– Я выбросил твоего уруса, отец, мертвецу не нужно тепло. У тебя нет сил на забавы, отец…
И – не смог говорить о незначительном.
– Ты ведь слышал, отец? Пусть будет, как они хотят… а потом ты совершишь нужные обряды. Бурундай не станет запрещать; он справедлив, но милостив.
Твердо, но грустно было сказано, и Саин-бахши, встретившись с сыном взглядом, захлебнулся. Словно наяву увиделось: Ульджай, разметав руки, лежит навзничь на грязном снегу, шея туго захлестнута тетивой, а в выкаченных глазах замерзает стылое небо… но это небо было серым, урусским!..
Слишком страшно было видение, этого никак нельзя было допустить, никак; плошка выскользнула из пальцев и, опрокинувшись, упала на войлок. Густая белая струя поползла к жаровне.
– Синева не хочет этого! – Старику показалось, что от крика качнулся тяжелый полог, но всего лишь шепот сорвался с сухих губ, и Ульджаю пришлось наклониться ближе, чтобы услышать.
– Синева? Возможно… – ответил он так же тихо. – Но город стоит, а урусские копны иссякают, и коней нечем кормить…
Щадя отца, умолчал Ульджай о знамениях: о тихой смерти, что незаметно пришла и увела шелкового сэчена, смеясь над всей мудростью его свитков; и о шепотливом ропоте у ночных костров; и об урусах, выгнанных из темноты морозом: вернув хозяевам ненужную свободу, приползли полуживые бородачи, прося тепла и пищи, готовые валить стволы для прощального костра…