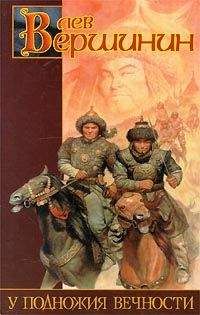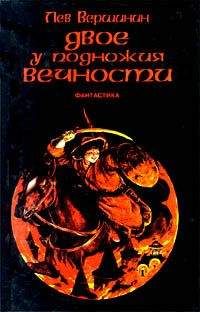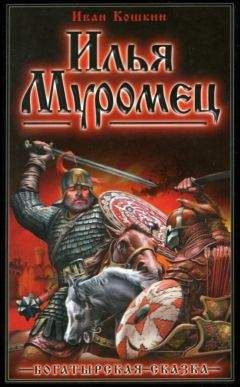И разве все это не было ясно выраженной волей Небес?
– Мой путь окончен, отец, – отстраненно, будто не о себе говоря, усмехнулся Ульджай. – Но я рад, что ты будешь рядом, когда это случится…
«Не оставь меня в пищу воронам», – сказал, не сказав, сын, и никакой отец не смог бы смолчать, услышав такое.
– Кто знает цель своего пути?
Лишь жестокое усилие заставило губы шевельнуться, но слова, связываясь в пучки, мягкими метелками развеивали обрывки мутной одури, пробуждая в затылке тягучую боль. Боль была другом, она напоминала телу о жизни, едва не оборвавшейся после беспощадного удара. Самого удара не помнил Саин-бахши…
С каждым словом боль вырастала, суля стать огромнее степи – и вернуть память о чем-то важном, о том, что было до тьмы; о чем-то очень нужном Ульджаю…
– Человеку не дано выбрать себе дорогу. На то есть воля Тэнгри. Ты думаешь, я мечтал встретить старость в урусских снегах? – Старик качнул головой, и дымка в выцветших зрачках истончилась, приоткрыв темные точки зрачков. – Нет, сынок, не мечтал. Я покинул родной улус, ушел к порогу того, чье имя неназываемо, ради мудрости и могущества; я хотел стоять перед Синевой и говорить с нею… Но только Тэнгри знает, чем кончаются тропы судьбы…
Это были вовсе не те слова, которые были нужны; слова складывались тяжело и неуклюже, но само покорное звучание голоса помогло боли вытеснить одурь. Пелена забытья, шурша, уползала, и где-то вдали, а потом все ближе и ближе зарокотала смуглая кожа бубна, смешиваясь с тонким перезвоном медных подвесок. И Ульджай осекся, не успев возразить, потому что темные отцовские зрачки, утонувшие в прищуре воспаленных век, внезапно расширились, заполняясь искрами цвета каменных слез северных морей. Чуть промелькнула бледная желтизна и сгустилась, замерцала яростным рыжим огнем, словно угли, оживленные дыханием…
…А боль взвизгнула – и сгинула, гулко расхохотавшись напоследок; хохот ударил в затылок молотом, и багровый занавес беспамятства приподнялся, обнажая минувшее. И вспомнилось: распадается надвое войлочная стена юрты, и две стремительные тени влетают в порыве морозного ветра; тяжелая рука взлетает вверх и опускается на лоб, и нет времени уклониться от оглушающего удара; вспыхивает перед взором огненный столб… и сквозь огонь видно: срастается, возрождается изломанный бубен и некто огромный в распахнутой, пахнущей тлением шубе ударяет по ожившей, опять туго натянутой коже… и глаза его полыхают рыжим пламенем, забивающим огненный столб боли… и все шевелится вокруг, источая запахи могилы и цветущего можжевельника…
– Отец! – вскинулся Ульджай, но не смог встать с кошмы; мягкие ладони легли незримо на плечи, не позволяя пошевелиться. А Саин-бахши замер, закатив глаза, – и затрясся мелкой дрожью, будто расплываясь, сливаясь с полумраком. Белая пена вскипела на пляшущих губах, судорога побежала по лицу, плечам, вскинутым кистям рук, жила набухла на тонкой шее, и она стала похожей на узловатую ветвь обожженного молнией деревца.
Растопыренные пальцы проскребли воздух, пытаясь ухватить что-то невидимое, янтарное сияние залило белки глаз, стало ярче, полыхнуло непредставимым заревом…
…и Кокэчу, воспрянув, вышел из содрогающегося на испятнанном хурутом войлоке сухого старческого тела, а Саин-бахши, обмякнув, откинулся назад и окунулся в безмолвную пустоту, исчерченную быстрыми следами неуловимых снов…
И белый конь Борак,[65] призывно заржав, ударил копытом о войлок.
…Расправил светлые крылья скакун Борак, оттолкнулся от заснеженной тверди и взмыл ввысь, выстелив в полете вихревую гриву, перепутанную лентами лунного мерцания. И вмиг остался далеко-далеко, в выстуженной тьме угрюмого леса, табор, испятнанный язвами тусклых костров.
Расступился перед широкой грудью коня непрочный облачный ворс, вскочил огнеглазый на пушистый ковер Первого Слоя Небес и помчался вдоль туманных наплывов, похожих на застывшую степную поземку, разрывая искристое сияние, озаряющее путь.
Отпустив поводья, летел Кокэчу, несомый конем и ветром, и вставали вокруг удивительные видения, схожие с обманчивыми миражами летних степей: округлые холмы выстраивались в дымке тумана, плавно стекали в широкие, дышащие спокойной свежестью лощины, а вдали то и дело возникали темные сгустки туч и заострялись, рассекая сияние клыками зловещих скал, – но тотчас и оседали, рассекаясь бесконечными ворохами белоснежных мехов.
А порой вырывался из зыбкого пуха клубящийся комок, выпрыгивал бесшумно из-под острых копыт и уносился прочь, оборачиваясь на бегу то тяжело скачущим куланом, то изящно стелющейся в полете сайгой, а то и рассыпаясь вдруг смутно различимыми стайками диких коз.
И нес ветрогривый седока в неведомое, неостановимо стремясь вперед по заоблачным дорогам; изредка же слегка расползался клочковатый ковер, приоткрывая скрытое.
Тогда мелькали внизу осколки земных стран, и узнавал их Кокэчу:
…вот изгибается, рассекая кипчакскую степь, синее лезвие реки Итиль;[66] так широка она, что студеному ветру, хлещущему с выстывшего до звона востока, не под силу сковать медленно текущую воду, и лишь густеет она, покрываясь мелкой ознобной дрожью…
…вот взметнулись черные копья гор, вскинув под самые облака ослепительно сверкающие острия; это Кау-Кас, край картлов и кахов, владение Белого Всадника Гурге, змееборца, бесстрашного и все же не сумевшего помочь детям своим, смуглым усачам с длинными кинжалами на поясах; еще вьется дым неостывших пожарищ, и ненавидяще щерятся обгорелые рты башенок на скальных клинках, безмолвно вопия о мести над пробитыми черепами в кольчатых колпаках…
…а вот и застывший, оседающий равнодушной пылью пепел давних костров; покорным желтым пятном раскинулся безропотный Хорезм, серыми струпьями руин встопорщились усмиренные города, а люди в полосатых халатах прильнули к глине, подобно червям, и лишь жилища незримого бога безнадежно грозят Небесам пустыми четырехпалыми ладонями…
…когда же развернулся внизу, весь в соцветиях лисьего лая, шелестящий шелк, исчерченный говорящими знаками, когда лучистыми трелями фарфоровых бубенцов сверкнул встречный ветер, овевая лицо терпкими благовониями страны Чжунго…
…встал на дыбы быстрокрылый Борак и, встряхнув гривой, прянул во Второй Слой Небес, покинув облачные пути.
И стало черно. Но не густая чернь смолы, и не влажная темень южной ночи, и не мглистый сумрак ночи северной лежали кругом – непостижимостью забытья было это и повисало клочьями на мохнатых бабках скакуна; множество далеких холодных искр мигало издалека, и вся пустота пребывала в непрестанном движении, приподнималась и опускалась, вращалась и возвращалась, дышала и стонала, но не слухом слышал, не зрением видел все Кокэчу, а иным способом, неподвластным пониманью.