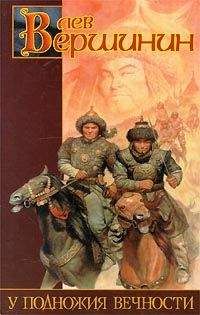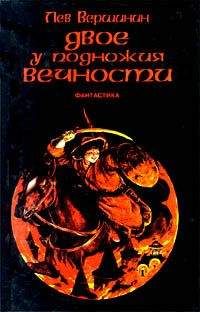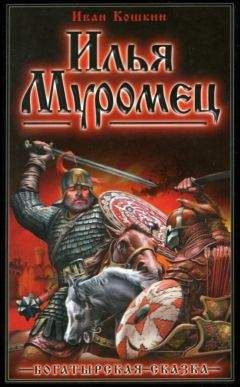– О Этуген! О Сульдэ! – слилось воедино.
Дрогнули зеркальные стены, и покачнулись устои Верхнего Мира.
Впервые прервав вечную сечу, замерли отцы в раздольях степей, подвластных Бортэ-Чино; позабыли следить за варевом матери в сочных лугах, владениях Хо-Марал, и накипь, шипя, поползла из казанов; запнулась в беге упряжка Небесных Мэргэнов; а Солнце с Луной, бросив игру, притихли у подножья Золотой Коновязи…
В Срединных же Слоях разверзлось зимнее небо, расцвело лепестками сполохов – и рухнул на сугробы тяжелый ливень, хлеща перепуганных смертных свинцовыми плетками замерзших в полете капель.
– Сгинн-нь! Сги-ннь!
И средь взметающихся клубков, в переплетении зла и добра, взметнулись и скрестились, многократно отразившись в зеркальных сводах, две сабли: кривая молния в деснице зеленоглазого, звеня, ударилась об изогнутый ветер, вскинутый Великим Шаманом…
…и перерубила его…
…только свистящие осколки запрыгали вдоль стен…
…и рухнул с коня Тэб-Тэнгри, раскинувшись на мерзлых плитах!
И тихо сделалось в чертоге.
Пала на колени Великая Мать, закрыв лицо рукавами, а Сульдэ-Война горделиво расправил плечи; рассмеялся зеленоглазый шакал, приближаясь к поверженному врагу…
И закричал последним криком Великий Шаман, словно плевки, посылая проклятия тому, кто за Последним Порогом:
– Проклят будь, Тэб-Хормуста! во веки веков проклят будь, лживый бог, слабый бог! проклят будь трижды!.. и пусть, прежде чем умру я, рухнет, иссохнув, дерево Галбурвас!
Тихо, совсем тихо прозвучал сорванный голос – но громом грянуло меж зеркальных сводов жуткое проклятие, никем никогда не произносимое, – и там, в глубине чертога, вдруг треснуло нечто, хрустнуло, покачнув стены…
…словно у истоков Мира надломилось дерево Галбурвас…
И подернулся лик Синевы сетью мельчайших морщин, и черная паутина затянула тяжкую завесу, с каждым мгновением становясь все гуще. На миг – не более! – отчетливо виден стал Творец Всего – и полон муки был его взгляд.
Потянулись нити по зеркалам, коснулись руки зеленоглазого, оплели саблю-молнию и вырвали из ослабевших пальцев… и затрепетал в ужасе хан, но не было у него больше охранителя: по тропам мрачных владений своих мчался Сульдэ, прижав уши к затылку, и скулил от невыносимого ужаса – не волком, волчонком напуганным! – и от взвизгов его замерзали обрывки зари.
И молвило нечто укрытое в середине паутины:
– Ты сверх меры зол, зеленоглазый. Зол и слаб. Сги-нннь!
И не стало Темугэ. Не стало вовсе. Как не было.
А из-за полога Владыки Пределов донесся жалобный плач…
Нечто же, изгнавшее Сульдэ, напугавшее Синеву, обволокло Великого Шамана, опутало нитями, нежно-нежно, и для него только одного различимо проник в уши вопрос:
– Зачем же просить у младших, глупец? Гляди!
Плетьми взметнулись полоски тьмы, ударили вхлест – и в ответ взвизгнула обожженная болью Синева:
– Пощадите, старшие!
Но кто старше Вечного Неба?
– …мы – те, кто ждал и дождался, – шелестит ответ. – Мы – сила…
– Сила! – заискивая, поддакнула Синева.
– Но… что я, пыль, могу дать?
– Веру… – прошелестело негромко.
И не стало сомнений. Истинно: нет силы без веры.
– Я верю! – внятно произнес Великий Шаман. – И прошу справедливости. Которой нет у слабых…
Услышав, обиженно всхлипнула Синева, но не посмела спорить.
– Тогда дай руку! – уже не слабый шелест… уже рокот.
Бестрепетно протянута ладонь; клочок тьмы коснулся пальцев, потек под рукав, впиваясь в кожу…
– Ты не глуп, червяк. Лишь сила судит справедливо. Слушай же: мы научим тебя… – рокочет на много ладов, и не разделить голоса, не разорвать.
А больше ничего не услышал Шаман; темная пелена опутала разум, и спустя миг зеркальные плиты разомкнулись под ногами…
…и Саин-бахши обмяк на кошме.
Оборвались корчи; худенькое тело освобожденно распрямилось, и радостно вскрикнул Ульджай:
– Отец!
Но мутен, невидящ взгляд зеленоватых, наполненных старческой слезой глаз, и плавает в слезе слабая черная дымка.
– Отееец!
– Дай руку, сынок… – пробормотал в беспамятстве Саин-бахши. – …Я научу тебя…
Слово о тавлейной доске и волосяной клетке
…Нет обиды большей, чем смерть. Живешь, бывает, живешь, а вдруг – помер, и нет уже жизни, ни скверной, ни ладной. Никакой нет. Горько… Хотя и то верно, что не на что пенять, ибо никто ямы не избегнет и на все воля Господня…
Воистину так, и всякий живот[69] во власти Его; и так уж определено Им, что, родившись однажды, встретишь, как ни крути, свой последний час, и нет в том зла, и должно в срок уступить дорогу идущим вслед, и не кончается жизнь с разложением плоти. Иное болит: никому не ведомо время ухода, и не подстелить соломки, и не прозреть заране: в люльке ль тебя, еще младенцем, изведет порча, не дав даже и осмыслить путем, сколь красен мир, попусту поманивший тебя?.. в битве ли, когда чуждая сталь, обманув саблю твою, змеей чиркнет по виску и ослепит негаданной тьмой?.. или выпадет счастливейший жребий – и тихонько войдет косая в опочивальню, где лежишь, усталый и дряхлый, под образами в окружении почтительных отпрысков, старший из коих уже и сам в седине; пристойно и несуетно войдет она – наилучшая, жданная! – и поманит тебя неслышно…
Но – так или этак – а не минует. Явится и заберет, не дав и надышаться напоследок, не оставив и мига проститься толком. Одного лишь не сумеет воспретить: встретить себя безбоязненно и отойти по-людски – и в этот-то для каждого страшный миг и проявится с ничем уже неопровержимой ясностью: кем ты был и кто есть, тварь ли животная – или высокое создание Божье?..
…Ондрей-ключник помирал хорошо. Ясно отходил, некрикливо. Поначалу, как несчастье случилось, едва ль не полный день отлежал в беспамятстве, но ближе к вечеру приоткрыл-таки глаза, огляделся беспомощно, застонал – и вновь впал в забытье. А ночью очнулся от грохота грозового и поразился сначала: отчего ж ночь?.. а потом: откуда гроза средь зимы?.. и наконец: да что ж это со мною?!
И тотчас вспомнилось: хрустит, прогибается под ногой обледенелая ступень, каблук соскальзывает, выводя тело вбок, и небо крутится, вставая дыбом, и поздно уже хвататься за воздух руками – не удержаться, никак не устоять… и удар спиною оземь! и свист в ушах! и бело-синий сполох перед глазами…
А как кинулась на выручку дворня, как подняли, понесли, уложили – того не вспомнил и вспомнить не мог. Но, придя в себя, не ощутил ног и понял: все! не встать уже… отгулялся. Тут-то бы и время затужить: что ж за напасть? – в осадном-то городе да с крыльца сверзиться… глупей глупого смерть!.. но не было обиды. Даже и жаль себя вроде не было, словно со стороны на чужого глянул, да и боли никакой… одно лишь онемение в теле да непривычный тяжелый комок в хрипящей груди… да еще странная розовая дымка, затуманившая все вокруг.