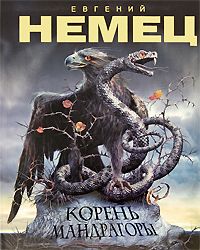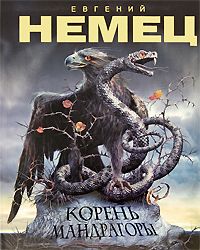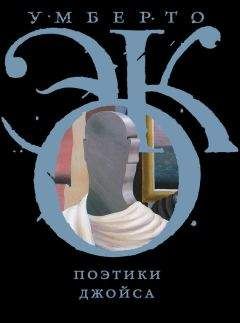Я очень ровно ответил:
— Если вы еще раз со мной заговорите, я вышвырну вас отсюда, как вокзальную шлюху.
И подумал, что ее праведность я вышвырну следом.
Женщина задохнулась от негодования, оглянулась по сторонам, ища поддержки у окружающих, но никто не спешил прийти ей на помощь — гости отворачивались и делали вид, что ничего не произошло. Женщина прошипела: «Какой хам», — и демонстративно задрав подбородок, направилась к выходу. Она переступила порог, оглянулась, сверкнув глазами-рыбами, и с грохотом захлопнула за собой дверь, словно опустила железный занавес на границе между двумя государствами. И она была права: мне нечего было делать на ее территории, мое место было и оставалось здесь — по эту сторону человечности.
Вечером пятнадцатого сентября мы сели в поезд, следовавший в Актюбинск. Кислый выглядел ошалелым, в его взгляде застыло удивление и легкий испуг, словно он не мог поверить, что наше путешествие все-таки состоится. Мара был спокоен, но на дне его небесных глаз прыгали солнечные зайчики лукавства и озорства. Я знал этот взгляд, он говорил, что его обладатель полон сил и веры довести начатое до конца.
Я посмотрел в окно. По крышам вечернего города скользили лучи заходящего солнца. Насыщенно рыжие и как будто махровые, они все еще распыляли тепло на открытых пространствах, но в затененных ущельях и трещинах скального массива города — в подворотнях и тесных улочках старых районов — ночная прохлада уже теснила лето, пахла стылыми дождями и пронизывающим ветром, и люди, ощущая ее дыхание, надевали плащи и куртки, прихватывали с собой зонты. Осень стояла за дверью и в любой момент могла переступить порог.
Поезд тронулся. Бейсболки, шляпы, кепки провожающих, лотки газет и журналов на соседних перронах, серый и мрачный монолит вокзала и за ним весь город откололись от нашего вагона и начали медленно отдаляться. Я подумал, что отныне нас будет разделять не только расстояние, но и время — этот мир безнадежно уплывал в прошлое. Я перевел взгляд на Кислого, сказал:
— Добро пожаловать в историю.
Мара извлек из внутреннего кармана плоскую бутылочку коньяка, отвинтил крышку, протянул мне.
— Да будет так, — сказал он. — За будущее.
Коньяк закончился быстро, потому что Кислый присасывался к бутылочке, словно капитан Блад к бочонку рома. Мне приходилось буквально выдирать бутылочку из его рук, но Кислый все равно успевал сделать три-четыре глотка. Проводница — женщина лет сорока, с обиженным лицом и с волосами, отбеленными до полного отсутствия цвета, — принесла нам три стакана бледного чая. Мы достали бутерброды и принялись за ужин. Мара, к которому вместе с коньяком вернулась словоохотливость, наставлял:
— Понимаешь, предназначение человека — весьма туманный предмет для обсуждения. Если на страну обрушивается тотальная война, людям не приходится свое предназначение искать. Это предназначение вколачивают в гражданина обстоятельства — люди кладут свои жизни на борьбу с захватчиками или во имя идеи, а после войны восстанавливают из руин города в полной уверенности, что других целей у них и быть не может. В такой ситуации мораль запрещает человеку искать свое предназначение в чем-то другом. Война, без сомнений, ужасная трагедия, но если смотреть бесстрастно, она дает людям то, чего они сами, скорее всего, найти в своей жизни не в состоянии — смысл существования. Примерно то же самое люди получают от революций, религий и утопических идей. В странах, где давно не было войны, расцветает преступность, потребление алкоголя и наркотиков превращается в манию, процент самоубийств растет, на лечение психических заболеваний тратится все больше и больше средств.
— Что тут скажешь, мирная жизнь — она всегда веселая, заметил я.
Мара меня не слышал, он декламировал дальше:
— В конкурсе на максимальное количество серийных маньяков-убийц Соединенные Штаты лидируют с огромным отрывом. Европа помнит только Жиля де Ре во Франции да Джека-потрошителя в Англии. У нас их было немного больше просто потому, что у нас народу значительно больше. Зато в Штатах маньяков пруд пруди — это одно из следствий того, что на территории США давно не было масштабных войн. Из бездн истории до нас доходят апокалипсические тексты, которые в нашей жизни и вовсе стали частью культуры. Начиная с апокалипсических апокрифов и заканчивая фильмами-катастрофами. О чем они говорят? Зачем человечество снимает картины своего собственного тотального краха, а потом с удовольствием их смотрит, да еще и восхищается? Потому что в апокалипсисе присутствует волнующее начало нового, которое мы ощущаем на уровне инстинкта. Инстинкта не человека — цивилизации. Понимаешь? Если нет войн, нет катастроф, человечество начинает их изобретать. Потому что подсознательно человечество стремится к апокалипсису, чувствуя, что этот рагнарёк станет всего лишь новой ступенью эволюции, а вовсе не тотальным уничтожением разумной жизни на планете.
— Не думаю, что каждый отдельный житель планеты именно так воспринимает тотальный трындец и тем более свою жизнь как подвижку к этому трындецу, — заметил я.
— Точно, — согласился Мара. — Мало того, человек, рядовой представитель этой цивилизации, вообще ничего особенного о своей жизни не думает, он не готов искать свое предназначение самостоятельно, а потому с готовностью принимает любую чушь, которую ему скармливают сильные мира сего. Потому что если смысл существования не вколачивается в индивида извне, его сознание и психика начинают коллапси-ровать.
— Мара, тормози, — попытался я смягчить агрессию нашего воинствующего монаха. — То, о чем ты толкуешь, напоминает всеобщий заговор. Типа какие-нибудь иллюминаты или масоны управляют всем человечеством. Я в эту паранойю никогда не поверю.
— Заговор, Гвоздь, он не на уровне людей, не на уровне каждого отдельного человека, а потому в принципе никто не может за этим заговором стоять. Он — на уровне социальной структуры нашей цивилизации, он — прогнившие корни дерева, которое по привычке все еще приносит плоды. У этого заговора нет лица, а потому оно многолико. И в этом как раз проблема всех революций: они борются с людьми, в то время как надо бороться с сутью.
Мне нечего было возразить, я молча внимал.
— А эту суть нужно еще найти, но человечество никогда особо не стремилось ее искать. Основная масса населения планеты труслива и ленива. Поэтому историю и делают единицы — те, кто нашел в себе силы, и физические и духовные, чтобы отважиться на одиночество и… поиск. Рядового же представителя этой цивилизации вполне устраивает то, что у него уже есть: возможность вернуться вечером после работы в иллюзорную защищенность дома — стереотип поведения, отлаженный тысячелетиями. Года идут, и мысли о том, что надо что-то успеть, что жизнь превращается в болото, в трясину, а стало быть, во всем этом что-то не так… — эти мысли притупляются, а то и вовсе беспощадно топятся в алкоголе или наркотиках. Потому что гедонизм — это демон, требующий беспрекословного подчинения. И вот был человек, в котором можно было любить и ценить то, что он переход и гибель…