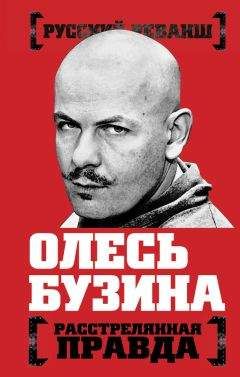Все играют на расстроенных инструментах, исключения лишь подтверждают правила. Важно не расстраиваться самому…
Я пристроил тяжелую виолу на согнутом колене… вообще-то, полагалось бы сидеть на стуле, но ладно… поза с подогнутыми, скрещенными ногами тоже подойдет. Вскинул туго натянутый лук смычка. Игра тоже похожа на битву…
— Что тебе сыграть, красавица?
— Все равно. Лишь бы время шло легче.
— О?… Его не бывает, легкого времени…
И — первое касание струн. Каким он будет, звук?… Тише! Стихните деревья, ветер, вода, лошади и вездесущие комары! Остановись, движение мира сквозь вековечный океан. Хотя бы на миг! Дайте мне возможность вклиниться, встроиться в вашу непреходящую гармонию собственной нотой…
Я заиграл старую-старую музыку. Говорят, она была еще до того, как в мир пришли Новые Боги. Иногда ее называют «Песенкой заблудившегося пастуха», иногда — «Песенкой о юнце и ведьме». Она изменяла ритм и темп, сбрасывала, прежние слова как змея старую шкуру, и обретала новые, наращивала куплет за куплетом и снова отбрасывала лишнее… Во всех землях поют ее по-разному. Мелодия там очень простая, и поэтому знатоки часто кривят рты в презрительной усмешки. Слова… когда проще, когда сложнее. Можно хоть самому придумать на ходу. Да что там — я сколько раз пел и матерные варианты, особенно под хмель! Но теперь, не знаю, почему, я выбрал те куплеты, которые больше всего любил напевать, перебирая струны лютни, лорд Бреаннон… Наверное, потому что они нравились Хендриксону. Наверное, потому, что я решил, что и Вии они понравятся.
Некоторые могут играть и петь одновременно — я же опустил смычок тогда, когда отзвучали первые такты (разумеется, фальшиво, а как же иначе!) Не могу. Не хватает и на то и на другое сразу. Спасибо, что голос повинуется мне гораздо лучше, чем своевольные, не в такт дрожащие струны.
Если хочется верить — верь,
Если хочешь стрелять — стреляй.
Застрахованным от потерь
Не шепнет никто «Выбирай!»
Начал — и понял, что фальшивлю не хуже инструмента. Не то что неправильно пою… не то пою. И не той. Вия слушала молча, опустив голову, перебирая пальцами край плаща, и песня в ночном лесу звучала совсем чужой. Но уже начав мелодию, остановиться невозможно. Я продолжал…
Где-то вывезло, где не свезло,
В перекрестке четыре пути.
И по каждому так тяжело,
Так почти невозможно идти!
Я больше люблю народные песни. Такие, ну, вы знаете, истории, простые или жуткие, про монахов, людоедов и распутных красавиц. У этой тоже есть народная версия: про пастуха, который искал отбившегося ягненка, да и заплутал среди холмов, да и встретил деву… А слова, что любил Бреаннон, наверное, были сложены менестрелями.
Вия теперь глядела на меня, и мне даже казалось, что я вижу ее…и даже повязку на руке, скрытую рукавом, вижу.
Она смогла задержать бога. Невозможно…
Вены вскрывала из-за меня. Почему?… За себя испугалась, что всех разнесу?… Нет, я-то знаю, как думают в такие моменты. Там логика иная. Думала бы о себе — побежала бы прочь, потом сообразила бы, что сделала не то.
Мы найдем то, что ищем. Вместе. А там решим, что будем делать дальше. Что у нее за беда, зачем ей нужно Драконье Солнце?… Я помогу, если смогу. И если не смогу — все равно постараюсь.
Если хочется верить — верь,
Может статься, окончится срок.
Так по нам ли споет суховей
Бесконечную песню дорог?…
Обычно в таких случаях я недолго нахожусь без сознания — может быть, несколько минут. Может быть, несколько больше. Но в этот раз я провалялся, вероятно, два или три часа. Скорее всего, ударился головой о дно, когда падал — ручей-то был мелким. Или же о камень, что торчал из воды. Тогда мне повезло, что я еще жив…
Когда я очнулся, то обнаружил, что лежу на лавке в каком-то бедном жилище. Пахло здесь плохо: гарью и плесенью; таракан, покачав усиками, отбежал от моего локтя в угол, протиснулся в щель между бревнами.
Сквозь маленькое окошко, чьи распахнутые ставни были перекошены, бил в комнату узкий пыльный луч света. Он освещал плохо сложенный очаг, два грязных горшка, один с дырой. Две лавки, паутину по углам, с балок свисают какие-то засохшие веники. Наверное, когда-то это были травы — целебные, приправы или сушеная облепиха на компот — бог его знает. Я лежал на лавке, укрытый какой-то дерюгой. Моя перекидная сумка, которой я обзавелся на той ярмарке, стояла у стены. Мой плащ и шерстяная накидка, распяленные, висели на крючках. Одежда была влажной. Уложить меня уложили, а раздеть не удосужились. Даже сапоги не сняли. С одной стороны, хорошо, что не ограбили, с другой — как бы не простудиться.
Зато приступ прошел почти бесследно — даже легкого привкуса боли не оставил. Только вот голова казалась необыкновенно легкой.
Странная штука, драконий яд. По меньшей мере, странная. Ты даже не замечаешь его… до времени. Жить он не мешает. Тоже до времени…
Несмотря на дерюгу, которой меня укрыли, я дрожал от холода, Я сел, и тут заметил, что на лавке у противоположной стены кто-то лежит. Но в маленьком пространстве бедной хижины с земляным полом не слышно его дыхания.
— Простите… — осторожно сказал я.
Тот, кто лежал на лавке, и кого я не мог как следует рассмотреть в полумраке, проигнорировал мой голос. Не ответил. И с внезапным отвращением я понял, что здесь труп.
Не то чтобы я так уж мало видел трупов в жизни. Но приятного в них мало, тем более, что всегда внутренне ждешь от них запаха разложения, даже если они совсем свежие, или еще какой-то гадости. Не могу относится к человеческим останкам с тем же здоровым прагматизмом, что и к коровьим тушам. Правда, и кремация мне не по душе. Уж лучше закапывать, как делают в некоторых землях. Потому что каждый раз, когда я вижу погребальный костер, я вспоминаю другое пламя… пламя, на которое я смотрел, хотя тетя говорила не смотреть и закрывала мне глаза. Без толку. Даже сквозь ее пальцы, сухие, твердые, пахнущие лавандовым мылом, я видел рыжие языки. Прямо за сомкнутыми веками видел.
Так о чем это я?…
Ах да, трупы я не люблю. Но и не боюсь. Чего их бояться? Может быть, у хозяина этой лачуги мания такая — подбирать трупы. И меня он за труп принял. Монахини говорили мне, что во время приступа я почти не дышу…
А может быть, это сам хозяин и есть? Притащил меня и умер?
Я встал со своего ложа (сапоги хлюпнули). Подошел к лавке.
И едва не рассмеялся. Это вообще было не тело! Это была кукла в человеческий рост, аккуратно сшитая из разномастных тряпок. Как сейчас помню, половина лица, по шву, была сделана из грубого небеленого холста, а другая половина — из полосатой шерстяной ткани, будто от чулка.