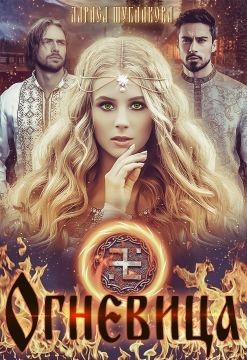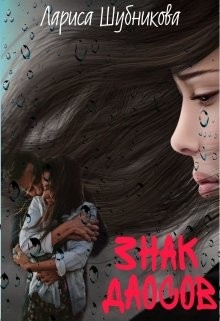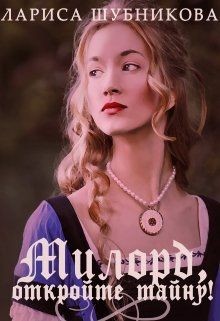Плава прибралась, взялась скоблить и без того чистый стол, а Нельга пошла в уголок да и села перед большим сундуком. На дне его отыскала наряд, купленный еще прошлым годом. Вспомнила, как ругал ее Богша за деньжищи огромные, что потратила на тонкую рубаху и вышитую запону. Наряд-то впору княжёнке какой, а тут у простой вольной. Улыбнулась, но одежки достала и положила на лавку. Вслед за этим вытащила мешочек с золотыми навесями и богатым очельем. Полюбовалась на богатство неуместное, но решила, что наденет. И пусть кто хочет ругается, а простой она не встанет перед Квитами. Пусть увидят, что пришли не к сиротке какой завалящей, а к родовитой. С того и наряжалась долго, да навеси вплетала ладно. Запону оправила, сапожки новые вздела на ноги и встала посреди гридницы, выпрямилась.
— Батюшки…это как так? — Плава вошла, принесла миску с молодым светлым медком и застыла на пороге. — Хозяйка, тебя и не узнать… Княжна, да непростая! Откуль такое?
— Не болтай, Плавушка. Мёд-то ставь, глянь на пол капает, — ворчала, но радовалась, что смотрится родовитой.
Плава на стол наметала: медка, хлебца, маслица свежего. Поставила миски нарядные, принесла ягод, блинов горяченьких. А гостей-то и не было…
Нельга уж понимать начала — обманул Некрас. Только дивилась тому, что прыгал в грозный Молог, тянул ее, глупую, вытаскивал.
Выглянула в окно и увидела Богшу. Тот бежал, будто земля под ним горела! Влетел в дом и закричал:
— Быстрее! Медвяна, уходить надоть!! Вею споймали в дому у Новиков! Слышь?! — отдышался. — Они ночью притекли за Ладимиром! Потравила она их! Военег мертвый лежит! А с ним и пяток дружинных его! Что стоишь?! Идут за тобой!
Плава охнула и на лавку осела. Медвяна застыла и разумела — вот и пришел конец всему. Видно на роду было начертано помстить, к тому и вели боги светлые.
— Нет, Богша. Поздно уж бежать, — услыхала, как громко стукнули ворота, а вслед за тем раздался грохот сапог в сенях. — Плаве деньгу дай. Пусть идет со двора домой. Холопов отпусти и сам утекай. Спаси тя за все, дядька мой родной.
Обняла Кривого накоротко, а потом руки разжала и встала. Смотрела ровно, спокойно. Спину прямила, головы не клонила. Радовалась, что себя может нести гордо, как Лутак. И не притворяться более, не жить чужой жизнью, не прикрываться ворованной берёстой.
В гридницу вошли борзо пяток ратных, обступили со всех сторон. Один дружинный — седоватый, матёрый — молвил, глядя на Медвяну:
— Безродная Новица твоя холопка?
— Моя, — Медвяна и не подумала головы опустить, смотрела прямо в глаза воину и не боялась.
— Она травила Военега Рудного. Князь Ладимир зовет. Идем, девка, — и потянулся рукой к ней за рубаху хватать, тянуть из дому.
Медвяна бровь изогнула, метнула взгляд суровый, ратник и застыл. Видать, не ждал от простой вольной смелости такой дурной.
— Не тронь. Сама пойду и ответ князю дам.
Седой подумал миг, кивнул своим, они и потянулись на двор. Сам матёрый остался, ждал, когда пойдет за ним гордая.
Медвяна оглядела гридницу светлую, лавку, на которой спала так долго и сладко, стол с богатым угощением, за которым никто и сидеть-то более не будет. Увидала, как на нарядной миске, у самого краешка наливается и блестит прозрачная капля молодого медка. Набирает тяжесть, полнится и кап… Вот так и жизнь ее, налилась, сверкнула на солнышке и упала, кончилась.
На улицу ступила смело, оглядела подворье свое Луганское, и вот странно, заметила, что солнце нынче нежгливое, зноя нет, а одна лишь прохлада. Небо синее-синее, ни облачка, и листва зеленая-зеленая кружевная.
Повернулась к матёрому, сказала тихо и важно:
— Веди.
Ратник осмотрел Медвяну внимательно, словно расценил, уразумел — непростого корня. Вышел вперед и потопал большими сапожищами по дороге. Оборачиваться не стал, видно понял — эта пойдет, не обманет. Родовитые слово свое чтут. Чай не простые вольные, не холопы.
Медвяна шла с прямой спиной, голову несла гордо. За ней шагали воины, а позади них трусил Богша, брови супил, кулаки сжимал.
По улицам народ собирался, шушукался, пальцами указывал. Старухи ойкали, парни хмурились, а девки не стеснялись языками молоть и голоса притом не утишали:
— Глянь, это Нельга что ль? Откуль одежки такие? Зимка, навеси-то золотые! Аж огнем горят! Никак к Ладимиру ведут?
— Радка, видала запону? А сапожки? Я такие токмо на торгу щупала! За них горсть серебрушек просили. Идем нето, послухаем, что у них?
К дому волхвы за Медвяной пришла целая толпа. Гомонили, конечно, но негромко. Боялись слова княжьего не услыхать, глядели во все глаза, чуя, что творится непростое, особое.
Медвяна огляделась, приметила у ворот дома Всеведу, а опричь нее двоих, по всему видно, родовитых. Один со скобленой головой и длиной косицей, в богатых одежках, при золотых обручах на обеих руках. Второй проще, но во тьму раз богаче, чем Луганские. Кругом стояли дружинные и вольные из городища. Вот в тот пустой круг и пустили Медвяну. Она встала прямо, голову подняла выше, едва носом в небо не упёрлась, а вот внутри дрожало все, скукоживалось. Сей миг поняла — шутки-то кончились. Вот он, мостик в навь темную! Порядят, поговорят и отсекут головушку. Виду-то не подавала, что боится, а родовитые приметили, глядели внимательно, словно насквозь прожигали.
— Ты чья? — подал голос тот, что с косицей, и поняла Медвяна, что князь слово уронил.
Вздохнула глубоко, посмотрела прямо в серые глаза Ладимира и громко молвила:
— Медвяна Лутак.
Шепотки поползли по толпе, и все громче и громче. Вот уж кто-то не сдержался и шумнул, что врет девка и знают ее, как Нельгу Сокур.
— Слыхала? Люди говорят, что врешь. И кому? Мне? Князю Новоградскому? — Ладимир голосом надавил, брови свел к переносью.
— Слыхала, княже, — голову еле склонила, мол, знаю кто ты. — В Лугань пришла, как Нельга. Обманула Рознега Новика, люд честной, и в том винюсь.
Повернулась, нашла в толпе бледного Новика и поклонилась.
— Лутак, говоришь? — князь задумался, но ненадолго. — Медовуху делаешь?
— Делаю, княже.
Тот обернулся к Всеведе и второму родовитому:
— Узнал я вечор руку Лутаковскую. Подивился, что в Лугани сыскался умелец мёды делать. Еще отец мой привечал его стоялые, — а уж потом и Медвяне. — Кем тебе Любим Лутак приходится?
— Отцом, княже. Токмо нет его в живых. Убил его Военег Рудный, — взвился голос Медвянин, полетел над толпой. — И весь род мой посёк. Никого не оставил, кроме меня! Где холопка моя? Отдай. Я за нее ответ держать стану.
Гул пошел едва ли не громче грохота Молога! Среди прочих особо слышен был голос Рознега, что выкрикивал: «Говорил я, вины на мне нет! Кто ж знал, что змею в дому пригрел?! Ить берёсту показала, всё честь по чести!»
— Вон как. Указывать мне вздумала? Отдам, коли захочу. Я звал Рудных в Лугань, и мне теперь ответ держать перед братом его, Радомилом, — князь обернулся к дружинному ближнику. — Веди холопку. Говорить будет.
Через малое время, притащили Вею… Медвяна дрогнула, кулачки сжала. Вдовицу не узнать: битая, растрепанная, в волосах прядь седая. Сердечко забилось жалостливо, подсказало слова:
— Отпусти ее, княже. Я велела травить Военега.
Крики, гвалт и возгласы ратников! Двинулся к Медвяне тот, кого князь указал братом Рудного. Подошел, навис страшно:
— Ты как посмела руку поднять на воина? На главу рода?! Отвечай! — качнулся опасно, руку положил на рукоять меча.
— Голос умерь, Радомил. Не с рабой говоришь! Вольная я! Как посмела, спрашиваешь? А как Военег посмел род мой извести?! Рассказать тебе, что сотворил?! Али сам догадаешься? — Медвяна говорила громко, скрывала тряский голос, крепилась. — Деток малых от матерей отнимали и душили голыми руками! В сугробы кидали! Старикам головы сносили! Баб да молодух сильничали скопом и оставляли подыхать, что собак! Еще рассказать?! Отца моего и матушку прибили колами к воротам! Я помстила, я! И еще бы так сделала! Жаль, не смогла сама придушить пса кровавого своими руками!