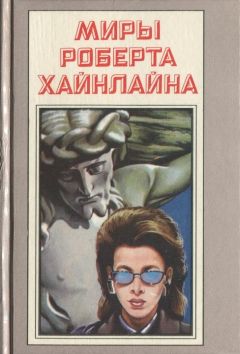Да и «вошебойка» оказалась не такой уж ужасной. Процедура представляла собой мытье в душе под наблюдением санитаров, которые по-испански требовали, чтобы волосяной покров на теле тщательно обрабатывали специальным жидким мылом. А в это время моя одежда проходила нечто вроде стерилизации, или окуривания, как я думаю, в автоклаве, и мне пришлось голым дожидаться минут двадцать, пока она будет готова, и с каждой минутой я злился все больше и больше.
Однако, одевшись, я перестал сердиться, так как понял, что никто не собирался меня оскорбить, просто каждая импровизированная процедура, в которую вовлечены толпы народа, почти наверняка оскорбляет человеческое достоинство. (Мексиканские беженцы тоже, видимо, находили ее постыдной: я слышал ропот.) Затем мне опять пришлось ждать — на сей раз Маргрету.
Она вышла из дальней двери женского отделения, увидела меня, улыбнулась, и все вокруг изменилось как по волшебству. И как ей удалось, выйдя из «вошебойки», выглядеть одетой с иголочки?
Она подошла ко мне и сказала:
— Я заставила ждать тебя, дорогой? Извини, пожалуйста. Там нашлись утюг и гладильная доска, и я воспользовалась ими, чтобы привести в порядок одежду. Она неважно выглядела, когда ее выдали.
— Я не заждался, — соврал я. — Ты очаровательна! (А вот это уже правда!) Пойдем обедать? Правда, боюсь, что это еда, приготовленная в полевой кухне.
— А разве мы не должны сначала пройти какую-то процедуру с документами?
— Ох! Я думаю, что сначала надо воздать должное благотворительному обеду. «Зеленые карты» нам не нужны — их выдают исключительно мексиканцам. Мне же придется лишь объяснить отсутствие у нас паспортов.
Я все продумал раньше и еще в поезде согласовал с Маргретой. Вот что я предложил сообщить властям о нашей судьбе: мы туристы, остановившиеся в Hotel de las Olas Atras, на берегу океана. Когда началось землетрясение, мы были на пляже. Таким образом мы потеряли одежду, деньги, паспорта, короче говоря, все, так как наш отель рухнул. Нам повезло, мы остались живы. Та одежда, что на нас, выдана мексиканским Красным Крестом.
Эта история обладала двумя преимуществами: Hotel de las Olas Atras действительно был разрушен, а остальную часть рассказа проверить было затруднительно.
Вскоре однако обнаружилось, что для получения обеда необходимо выстоять в очереди за «зелеными картами». В конце концов мы добрались до стола. Человек, сидевший за столом, сунул мне под нос анкету и сказал по-испански:
— Сначала напишите печатными буквами фамилию, потом адрес. Если дом во время землетрясения разрушен, укажите это и дайте адрес брата, отца, священника, кого угодно, чей дом сохранился.
Тут я завел свою песню. Человек поднял на меня глаза и сказал:
— Амиго, вы задерживаете очередь.
— Но мне не нужна «зеленая карта», — ответил я. — Я не хочу ее получать. Я американский гражданин, возвращаюсь из-за границы и стараюсь вам объяснить, почему у меня нет паспорта. То же самое относится и к моей жене.
Он побарабанил пальцем по столу.
— Послушайте, — сказал он. — По вашей манере говорить видно, что вы настоящий американец. Вернуть вам пропавший паспорт я не могу. У меня на очереди еще триста пятьдесят беженцев, вот-вот прибудет еще один состав. Почему бы вам не оказать мне услугу и не получить «зеленую карту»? Она вас не укусит и позволит въехать в страну. Завтра вы сможете поругаться с государственным департаментом относительно паспорта, а со мной не надо. О'кей?
Я глуп, но не упрям.
— О'кей.
В качестве своего мексиканского поручителя я назвал дона Хайме. Мне кажется, он нам много задолжал. Его адрес имел еще то преимущество, что находился совсем в другой Вселенной.
Обед оказался именно таким, каким должен быть благотворительный обед. Но это была еда гринго — первая за несколько месяцев, — а мы проголодались. Старковское печеное яблоко на десерт показалось мне необычайно вкусным. Незадолго до заката мы очутились на улицах Ногалеса — свободные, чистые, сытые и в Соединенных Штатах на законных — или почти законных — основаниях. Нам было на тысячу процентов лучше, чем той голой парочке, которую подобрали в океане семнадцать недель назад.
И все же мы были изгои — без денег, без пристанища, без одежды, кроме той, что на нас, а трехсуточная щетина на щеках и вид моей одежды, прошедшей обработку в автоклаве — или как его там? — придавали мне облик типичного обитателя трущоб.
Особенно обидным казалось безденежье, тогда как у нас были деньги, те самые чаевые, что припрятала Маргрета. Но на бумажных деньгах там, где должно было быть написано «Republika»,[59] стояло слово «Reino»,[60] а на монетах — вовсе не те лица, которым полагалось быть. Возможно, некоторые наши монеты содержали достаточно серебра, чтобы представлять здесь какую-то ценность, но даже если и так, получить за них местные наличные сейчас было бы трудно. Любая же попытка пустить их в ход обязательно вовлекла бы нас в большие неприятности.
Сколько мы потеряли? Ведь обменного курса между вселенными не существовало. Конечно, можно было сравнить покупательную способность денег
— столько-то дюжин яиц или столько-то кило сахара. Но какой в этом смысл? Сколько бы там ни было, мы все равно лишились своих денег.
Такие расчеты были бы ничуть не лучше той чепухи, которой я развлекался в Масатлане. Там, будучи хозяином подсобки, я писал письма: а) боссу Алекса Хергенсхаймера, преподобному Данди Данни Доверу, доктору богослову, директору церквей, объединенных благочестием; б) адвокатам Алека Грэхема в Далласе. Ни на одно письмо ответа не последовало, ни одно из них ко мне не вернулось. Именно этого я и ожидал, так как ни Алек, ни Александр не происходили из мира, где существуют летательные машины — aeroplanos.
Попробую сделать то же самое, но надежды мало: я уже знал, что новый мир чужд нам обоим — и Хергенсхаймеру, и Грэхему. Как узнал? До прибытия в Ногалес я не замечал ничего такого, но здесь, в пропускном пункте (а ну-ка, покрепче держитесь за свои стулья!), был телевизор! Очень красивый большой ящик с окошком вместо одной стенки, и в этом окошке живые изображения людей… и звуки, исходящие оттуда же, когда они разговаривали.
Вы либо имеете такое изобретение и привыкли к нему, как к чему-то обыденному, либо живете в мире, который ничего подобного не знает, и тогда вы мне не поверите. Так вот, узнайте же из моих уст — ведь меня тоже заставили поверить в нечто такое, во что вообще-то поверить невозможно, — такое изобретение существует. Есть мир, в котором оно столь же обычно, как велосипед, и называется «телевидение», а иногда «телик», или «видео», или даже «ящик для идиотов». И если бы вы знали, для каких целей подчас используется это великое чудо, вы бы тут же поняли, какой глубокий смысл имеет последнее название.