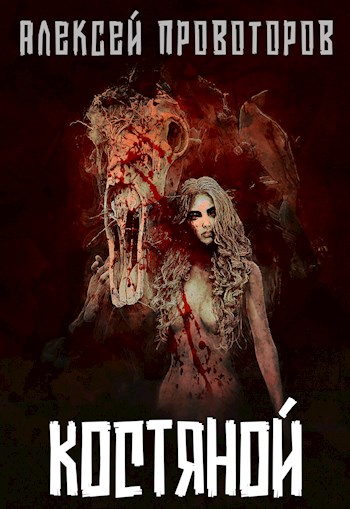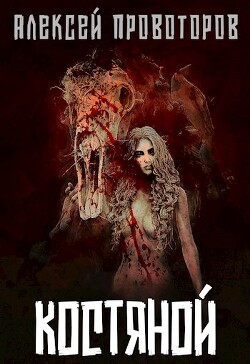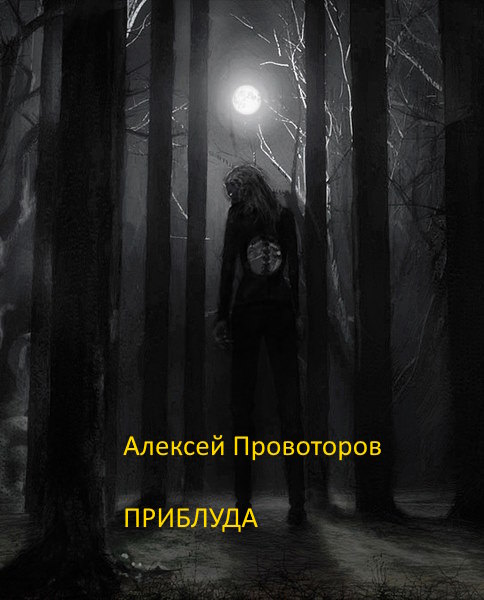Сотня лягушек прыгнули в воду с листьев, с колоды, с прибрежных корней, и после единого всплеска воцарилась тишина. Приоткрыв рот, девица посмотрела на меня во все зеленовато-голубые, под цвет грибам, глазищи.
– Мо-о-олодец! – сказала она бархатно, низко, у меня по спине аж мурашки прошлись.
– Девица, – кивнул я как мог безразлично.
– Да не бойся ты, не русалка я. Хоть и похожа, говорят.
– А чего тогда у тебя одежи нет?
– А без одежи я тебе не люба?
Я хотел ответить что-нибудь грубое и не смог. Нравились мне эта линия плеч, тени в ямках ключиц, блеск волос. Глаза прилипли.
– А от меня чего надо?
– Вынеси меня, я ногу свихнула.
– Покажи ногу-то, – сказал я.
– Ты, что ли, знахарь?
– Ногу покажи.
– А еще тебе чего показать? – улыбнулась девушка. Рот у нее оказался широковат, но улыбка вышла милая. Нож я спрятал, а то стоял, как дурак, с ножом. Но подходить к ней ближе я не собирался.
– Дорогу отсюдова.
– Дорогу знаю. Ты меня на берег вытащи, дальше покажу.
Девушка запрокинула голову, волосы соскользнули за плечи, и она осталась ничем не прикрытой.
Я сделал шаг вперед, просто чтоб набрать воды и плеснуть себе в лицо, – как только девушка перестала петь свою дремотную песню, в голове прояснилось, а может, над водой было свежее, чем на парком лугу.
И ушел по колено в ил. Что-то больно распороло штанину, разодрало ногу.
Только тогда я увидел, что в воде полно костей, торчащих из грязного дна. Ребра, руки, осклизлые зеленые черепа и лицо совсем недавнего утопленника с открытым в крике ртом. Отражения на воде больше не скрывали этот подводный лес костей.
А еще я увидел наконец ее ноги, огромные черные ступни с перепонками.
Я поднял голову, рванувшись рукой к ножу, но, конечно, не успел.
Болотница вскочила мне на плечи, надавила, вжимая в мутную воду, ряска налипла на лицо, в носу жгло, грудь разрывало от ужаса и невозможности вдохнуть.
Я нашарил нож, махнул куда-то, но речная трава обвила мне руки, нож запутался, завяз в зеленом месиве.
Я тонул. Воздуха в груди не оставалось. Сполз с плеча ларец, протянулась по руке цепь; я схватил его свободной рукой и, из последних сил выпростав руку над водой, ударил ледяной угловатой железкой наугад.
Внезапно отпустило. Я разогнулся пружиной, не глядя взмахнул цепью, ларец с глухим шлепком врезался во что-то, я выдернул наконец руку с ножом и сипло заорал, извергая грязную воду изо рта и носа. По шее текла и скапывала в воду кровь. Достала меня, стерва.
Болотница огромной жабой перебросилась через корягу, вытаращила отсвечивающие зенки, раскрыла от уха до уха рот, полный плоских острых зубов.
Я отпрянул, ломанулся к берегу, раздирая ноги о старые кости, и одним отчаянным рывком, зацепив цепь ларца за сук и обжигаясь холодом, вытащил себя на берег, на прочные корни.
– Не, молодец, проваливай-ка ты отсюда, себе на погибель позвала, – сказала болотница, взбираясь на корягу. Голос ее стал совсем низким, глухим. Когти жутких ног впились в мох. Но она все еще походила на человека, только на мертвого, давно утопшего, разбухшего, побелевшего от долгого лежания в воде. – Раз ты такую смерть с собой носишь, то, может, и на меня чего найдешь. Я уже сегодня сыта, проваливай по добру. – И добавила ни к селу ни к городу: – Чтоб тебя дождь намочил!
Я не понял, о чем она, о какой смерти, не понял, почему оставила меня, и ответить не успел.
Словно закипела вода, плеснуло, огромная, как конь, рыбина смела болотницу с бревна, хрипло охнуло, брызнула темная кровь и заклубилась в воде, будто пролитые чернила. Тяжелый, затхлый дух болота и мертвечины потянулся над водой.
И из этой воды высунулась подозрительно знакомая рыбья морда, только огромная, именно что с конскую башку размером. Из плоского затылка торчали, закручиваясь назад, мелово-белые трубчатые рога; с одного свисал колокольчик. По охристой чешуе шли золотые и серебряные ромбы.
Рыба вращала глазом, медленно открывая кроваво-алые жабры. Отвратный дух болота ушел, запахло странно, сладкой какой-то травой и морской солью.
– Эй, молодец! Как тебя звать-то? – раздался голос, хрипловатый, со звеняще-воющей нотой, словно кто играл на пиле.
Рыбина, громадная, будто бревно, разевала рот, показывала алое нёбо и белые острые зубы. Она действительно говорила.
– Явор… – ответил я со стоном.
– А по-батюшке? У вас, людей, так положено, если со всем уважением?
У меня не было сил возражать против рыбьего уважения. Я замерз, перетрусил и терял кровь.
Сжимая в бессильных от страха руках цепь с ларцом и нож, я выдохнул хрипло и сказал:
– Никитич.
– Спасибо тебе, Явор Никитич, что ты мою дочь выпустил. Она все мне рассказала: как Марьин пастух ее в сеть поймал, как сестрицу разделал да в костер кинул… – Тут рыба пустила маслянистую слезу, а воющая нота в голосе сделалась почти невыносимой. – И как ты, добрый молодец, ее освободил. Каплю твоей крови дочка мне принесла, чтоб я могла тебя найти да помочь, если с тобой на любой воде беда случится. Я как твою кровь почуяла – сразу и пришла.
– Благодарствую. Только вот я вроде и сам справился.
– Не гневи, Явор Никитич! – скрежетнула рогатая рыбина.
– Я, знаешь ли, тебя не звал, кто ты такая, ведать не ведаю, – ответил я. Страх отпускал, приходила запоздалая злость.
– Я Морская Коза, Ясконтия дочка.
Ясконтий. Я слышал про гигантскую, с остров, животину, на чьей спине растет целый еловый лес, но спрашивать не стал. Ясконтий – создание морское, а до моря прежде надо живым добраться. А побег мой как-то не задался.
– А ты, значит, у Марьи, царицы моря, в подчинении ходишь?
– Нет, Явор Никитич, Марья много чем владеет, конь у нее с островов, что за тысячу верст дальше от Буяна, и все море дотудова ее слушает, а все ж океан велик, и чуда в нем живут великие. Отец мой, Ясконтий, сам себе хозяин, рыба-остров, и я сама себе хозяйка. Я ее рожка не слушаюсь и на волос ее не ловлюсь, а вот детушки мои в сетке с ее волосом запутались.
Так вот оно что за проволока была, сообразил я. На базаре в Синь-Городе когда-то мужик продавал волос, длинный-длинный, рыже-золотой; Засека тогда еще купить хотел – мужик божился, что это Марьи, морской колдуньи, волос и на него рыба сама идет.
– Ну, бывай, Ясконтьевна, – сказал я.
– Ну ла-а-адно-о… – с воем проскрежетала рыба. – Не принимаешь мою отплату. Лады: если еще раз меня позовешь – приду, помогу. Станет тебе худо на реке или на море, капни в воду кровью.
Плыви уже, век бы тебя не видеть и твоей помощи не знать, подумал я.
– Только много, смотри, не лей, я до крови охоча, одурею – тебе же хуже будет.
– Ты мне не грозись, – в сердцах ответил я, пряча наконец нож и надевая цепь на шею. – Надеюсь, не свидимся!
– Как знаешь, а я пообещала. Береги себя, Явор Никитич. Погибель ты на шее носишь, хоть и не свою.
Морская Коза звякнула колокольчиком, нырнула – меня брызгами обдало, а по старице аж вертун пошел, – и пропала, как не было ее.
Настало время уходить. Я не знал, какой такой у Марьи пастух, но зато знал, что коров да овец она не разводит, а вот коней – да. А где пастух, там и стадо.
Болотницы не стало, морок рассеялся, и я легко обогнул старицу и выбрался на высокий луг.
Я думал, не стоит ли мне и вправду встретиться с Марьей.
Говорили, что на островах, где она родилась, кликали ее не Марья, а Марте, а Марьей она уже на этом берегу назвалась, когда выучила первые нужные для торговли слова и стала заплетать волосы в косу на местный лад.
Сказывали, что в бою она удачлива, что кольчугу ее и железную шапку заговорили семь особых старух еще на том краю моря. И что с тех пор свой шлем на людях она никогда не снимает и лица ее за железной личиной никто не видел. Считалось, что заговор защищать-то защищает, да только увечье недалеко вертится, копится да случая ждет.
Марья владела берегом, почитай, полсотни лет, но не старела. Сватались к ней и воины, и князья, и колдуны, да только никого она не приняла. Говорят, сам Бессмертный к ней подъезжал, как колдун к колдунье, да и ему она отказала. Говорили, что он осерчал, и дрались они чуть ли не три дня и три ночи, а после Марья победила его и в цепи заковала. Так он где-то у нее в плену и мается.