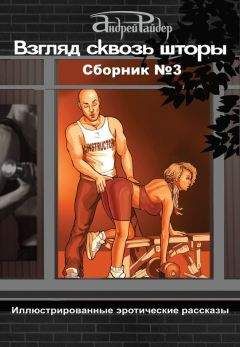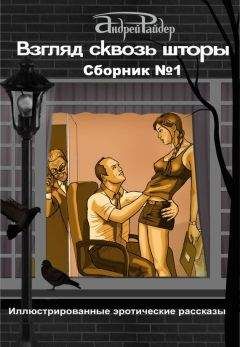— И чья ж ты будешь?
— А ничья, — она говорит и будто насмехается: — А тебя как звать, молодец?
— А ты отгадай. — Сёмка подумал, что она и так его имя знать должна, если на Масленицу все на самом деле было.
— Как же я угадаю? Имен много…
— Так попробуй. Угадаешь — женюсь на тебе.
— Думаешь, я за тебя выйти хочу? Ничуть не хочу, — сказала, а сама зарумянилась, застыдилась, но глаза вскинула и говорит: — А зовут тебя Семёном.
— Ну вот, а говорила невозможно… Хорошо, хорошо получается. Дальше давай.
Он, наверное, хотел ей приятное сделать? Поддержать? Не нужны ни поддержка его, ни похвалы! Чужая боль душит, как своя. Чужая память бередит раны; каждая черточка, каждая деталь, что всплывает в памяти, тупым ножом режет по сердцу.
В общем, ум Сёмка потерял… И день и ночь об Олёнке думал, с лица спал — вся Черная Слободка о присухе болтала. А он под вечер садился на коня и прямехонько в Ужово: бешеному кобелю семь верст не крюк.
Отец к тому времени немного поуспокоился, перестал по ночам вскакивать и дом дозором обходить. На Сёмкины гулянки смотрел сквозь пальцы: лишь бы дело не страдало, а так — гуляй не хочу. На праздники и денег подкидывал — ну, что не хуже людей живем и покутить иногда можем. Но когда Сёмка заикнулся о женитьбе, отец, конечно, призадумался и послал приказчика разузнать все об Олёнкином семействе. Что уж там приказчик разузнал, Сёмке он доклада не делал, но отец так озлился, что отходил Сёмку плеткой от всей души и наказал на версту к «этому отродью» не подходить. Вообще-то Сёмка в уважении к отцу был воспитан, но тут обида его взяла, не чуял он за собой никакой вины. И стоило отцу отвернуться, сел на лошадь и поехал опять в Ужово.
Олёнка его на мосту всегда встречала, он ее издалека видел. Стоит, на воду смотрит — будто просто так. Лишь изредка глянет на дорогу. Но только Сёмка подъедет, распрямляется, смотрит на него — глаза счастливые, ласковые. Сёмушкой его звала и ясным соколом.
В тот раз Олёнка сразу почуяла неладное, по глазам все поняла. А у Сёмки и язык не поворачивается ее про родителей спросить. Она сама ему все рассказала, ничего не скрыла. Что не родители они ей вовсе, дядька с теткой, а сама она сирота уже давно. Плохо ей с ними жить, дядька ей хуже отчима, а тетка поперек него слова не скажет, потому что тот настоящий колдун. Тетка и сама ворожит понемногу, и Олёнку учит: в роду у них все женки к ворожбе способные. Но ворожба — это не колдовство, нет в этом зла никакого людям.
Сёмка слушал ее, и еще больше ему хотелось за себя ее взять — спасти от дядьки-колдуна, от невеселой сиротской жизни. Думал он, что сам никогда ее не обидит, что жить она с ним будет как за каменной стеной. И даже тайно венчаться хотел, бежать от родителей. Только Олёнка сказала, что не по-людски это…
Домой после этого ехать Сёмка побаивался, однако твердо решил на своем стоять. Но отец встретил его без злости, жалостно даже. Сказал, что ни в чем Сёмка не виноват, что виной всему присуха. Сидели они на крыльце до света. Сёмка все объяснить хотел, будто Олёнкиного греха нет в том, что она сиротой осталась и с дурными людьми стала жить. Но отец гнул свое: из корысти она Сёмку присушила.
— Они же приходили ко мне перед Страстной неделей… — вздохнул отец. — Купить одну вещицу хотели. Предлагали аж пять тысяч рублей.
— Сколько? — Сёмка задохнулся. С такими деньгами и в самом деле можно было и о второй гильдии подумать, и о каменном доме.
— Пять тысяч.
— И что ж? Обманули?
— Отказался я.
— Как отказался? — Сёмка просто обалдел. Отец каждую копейку считал, над каждым рублем трясся, как царь Кощей.
— Нельзя эту вещь продать. Я памятью отца с матерью клялся, что ее не продам. Ты мой единственный сын, тебе она по наследству от меня перейдет, и ты на могиле моей поклянись, что никому ее не отдашь.
— Очень хорошо. Очень. Ты молодец. — Было слышно, как за спиной темный человек снова в нетерпении щелкает пальцами. — Давай, давай. Раскручивай.
— Неужто такая дорогая, что пять тысяч рублей стоит? — спросил Сёмка.
— Она дороже жизни стоит. А деньги — тьфу. Наживем.
— Что ж за вещь такая? Камень драгоценный?
— Да нет… Документ. Грамота старинная. Необыкновенной силы…
— Она, может, удачу приносит? — Сёмка был слегка разочарован.
— Неудачу она приносит, — проворчал отец.
— Бать, но если у них так много денег, что ж у Олёнки за корысть тогда на меня присуху делать? С такими деньжищами да с такой красотой ее и побогаче кто возьмет.
— Грамота им нужна, а не деньги наши. Они ведь мне и дом пожечь обещали, и дочерей моих уморить, и проклятье наслать на семью до седьмого колена. Ворона эта черная много чего накаркала: и мне смерть лютую, и тебе жизнь короткую и несчастную.
— Но Олёнка-то при чем! Олёнка-то любит меня! Она и сама от дядьки-колдуна натерпелась, зачем ей меня обманывать из-за какой-то грамотки?
— Вот что. Завтра постись целый день, в воскресенье в церковь пойдем. Пусть причастит тебя батюшка да отчитает молитв на остуду.
В общем, посадил отец Сёмку под замок. Батюшка строгий пост ему велел блюсти, каждый день в церковь ходить, все обедни выстаивать. Молитвы над ним читал по часу, а то и по два — Сёмка штаны протер на коленках. Отец и церкви хорошо пожертвовал, и батюшке денег давал. Только не помогали ни пост, ни молитвы — чах Сёмка, на глазах худел и чернел. Батюшка говорил, что это бесы его изнутри точат, не нравится им в церкви, вот и злятся они. Через три недели мать не выдержала, сварила щей пожирнее, сметаны на хлеб намазала, сливок кринку поставила и велела Сёмке есть. Только ему кусок в горло не шел — он каждый день только и думал, как отца обмануть да из дому сбежать. Вспомнит, что Олёнка на мосту стоит и его ждет, — ни есть, ни пить не хочется.
К бабке его тоже водили, та головой качала, говорила, что очень сильна присуха. Матери велела землицы взять между двух гор — а какие тут горы, поля одни! Мать уж ехать собиралась незнамо куда, да бабка сжалилась, продала ей нужной землицы и медвежьих когтей еще, мелко изрубленных. В хлебец заговоренный все это запекли и велели Сёмке съесть — не помогло.
А на Ильин день отец объявил, что нашел Сёмке невесту — Катеньку, сестру Ваньки Рябого. Слова нет, хорошо была Катенька, и семейство у них не бедствовало, за ней приданого тысячу рублей одними только деньгами давали, не считая всего остального. Раньше отец на Катеньку и не смотрел, девчонок помоложе приглядывал — думал, что рано Сёмке жениться, может и погулять годок-другой. А Катеньке уж шестнадцать было, некогда ждать, пока Сёмка нагуляется.