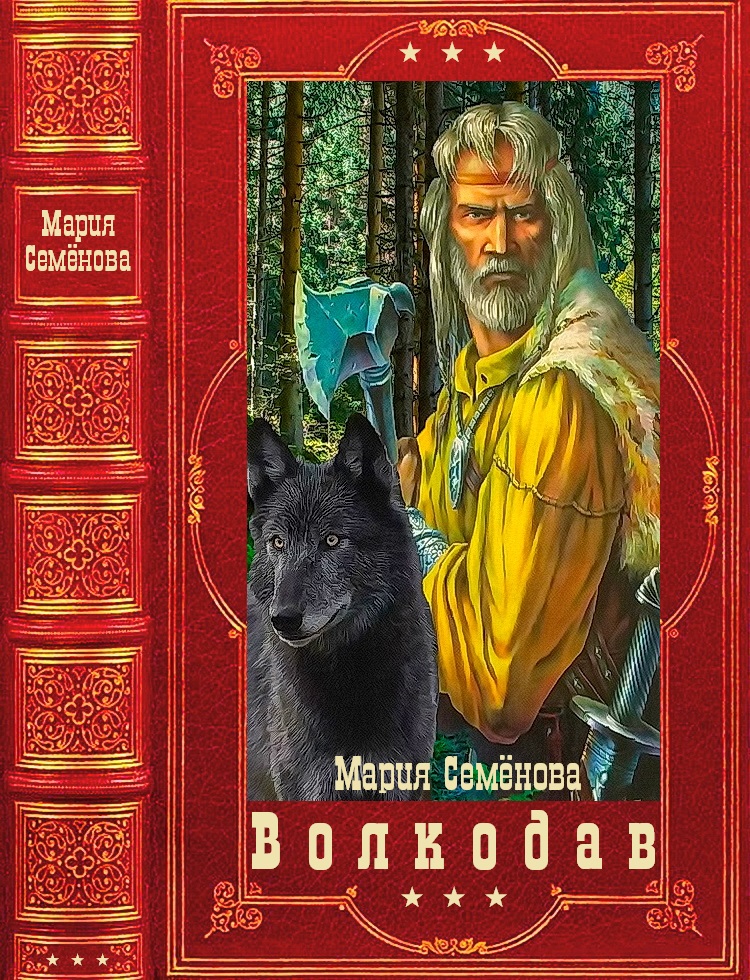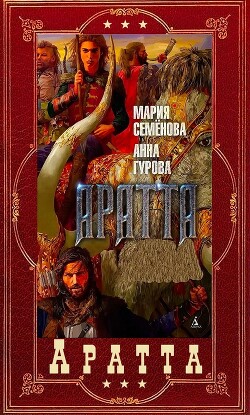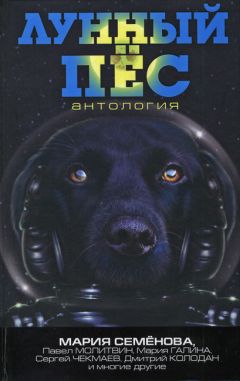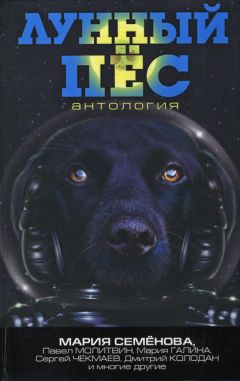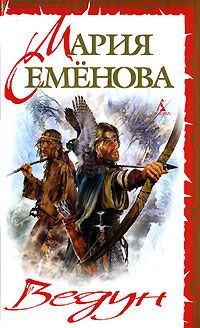ясно и ровно горели шегардайские свечи – жирные вяленые рыбёшки с продетыми фитильками. Ведунья ещё созерцала что-то в мирах, недоступных смертному взгляду. Дым тонкой куделью тёк к её пальцам, ворожея сучила и пряла, то ли распутывая, то ли увязывая судьбу юной кузнечихи… Наконец вернулась к земному. Увидела непутку с отроковицей, замерших у порога:
– Дело пытаешь али просто так заглянула?
Непутка ударила большим поклоном, дёрнула за руку дочь.
– На четыре ветра тебе, государыня богознающая добродея…
– И тебе поздорову, ласковая сестрица, – прозвучало в ответ. – Честно ли внизу мои доченьки приняли? Если неучтивы были, уж я им, бестолковым!
– Такие дочки всякой матери слава, – глухо отозвалась непутка. – Дай тебе Правосудная добрых сынов богоданных… внуков во множестве…
– Благодарствую на добром слове, сестра. Что ж, садись да рассказывай, какую невзгоду мне на порог принесла.
Непутка, дрожа, опустилась на простую скамеечку, всю вылощенную людскими портами. Знать, горестям у народишка не было переводу. Девочка жадно рассматривала ворожею. Ждала цветных камешков в чаше, шёлкового платка на глазах, как у пророчиц с Гадалкина носа… ошиблась. Женщина, сидевшая в святом углу, больше напоминала неутомимую лыжницу из дикоземья, заехавшую продать копчёных гусей. Стать сухая, возраста по лицу не поймёшь, взгляд светлым-светел – из самострела всадит, не прометнётся. Только волосы, расчёсанные по плечам, прихватила белая паутина.
– Я… родом нездешняя… – начала было непутка.
Ворожея нетерпеливо повела бровью:
– Это знаю. С родителями от Беды убегала, в дороге осиротела. Радибору служила, а выставил, в людях помы́калась, к ласковым девушкам подалась… В чём, спрашиваю, горе твоё? Что избыть хочешь?
Непутка произнесла очень тихо, но в голосе скрипело лезо, тянущееся из ножен:
– В том и горе моё горькое, что он, Радибор, воздухом дышит, воду пьёт, землю топчет безвинную.
…Дрогнули свечи. Рыбьи зубастые пасти подавились коптящими фитильками. Ворожея наклонилась вперёд, глаза блеснули, словно у кошки, вышедшей к свету:
– Такого, безумница, у Богов не проси, в мыслях мыслить не смей! Сила нам какая ни есть даётся лишь на добро, потому что зла и без нас в достатке творится!
Непутка опустила на стол глухо звякнувший свёрток. И продолжила мёртвым шёпотом, глядя прямо в светящиеся зрачки:
– Хранила я серьги прабабкины. Ни на снедный кус, ни на тёплый ночлег сменять не польстилась… Узрела их Радиборова жёнка. Затряслась аж: продай!.. а как я дочкино наследство продам? Назавтра меня в толчки за ворота… узелок мой вслед кинули, а серёг в нём и нету…
Ворожея молчала, слушала пристально. Глаза просительницы ненадолго блеснули давно утраченной синевой.
– А после на праздник Обретения Посоха она, Радибориха, в моих серьгах вышла! И где правду искать? Злодей мой в городе могуч, а я кто?.. Ни уличан, ни родни!
– Сестрица… – вдруг тихо, жалеючи произнесла добродея. – Владычица уже склоняется над тобой… Есть ли кому дитя вверить, поцелуй её принимая?
Девочка моргала, цеплялась за мать, смотрела то на неё, то на ворожею. Каждое слово в отдельности она понимала. На всё вместе разумения не было. Только съеденная ушица оборачивалась в животе камнем.
Хозяйка продолжала:
– Хочешь, пригрею? Станет моей негу́шкой, певчей пичужкой. Тебе памятью, мне радостью, в миру славой, как старшенькие когда-то…
Ну нет! Чтобы последнее своё сокровище – да в чужие загребущие руки?.. Хобот посягал, и эта туда же?.. Непутка вскочила. Мгновенным движением сгребла со стола свёрток. Схватила за руку дочь, молча бросилась в дверь, лишь на пороге сипло бросила в темноту:
– Да чтоб тебе по пичужкам своим душой изболеться, как мне по моей!..
За день стужа ушла, побеждённая совокупным молением горожан. На ериках растаял ледок. Белые клыки, одевшие инеем немало домов, вновь обратились зыбкими хвостами тумана. В храме Морского Хозяина по-прежнему гудели паровые ревуны, но не тревожно, как утром, а благодарственно. Верешко неуклонно верил Владычице, чьё ухо склонялось лишь к пению людских голосов, ему надлежало с презрением отвращаться от несовершенных погудок иных поклонений… Зыки труб всё равно вселяли уверенность, что Шегардай не сдастся морозу, будет стоять и завтра, и послезавтра, и через год.
Ревуны появились в храме недавно, однако горожанам пришлись по нраву.
– Ишь, согласно гудут, – вслух порадовался поздний прохожий. – Верно, парень?.. – И сощурился. – Ты, что ли, Малютич?
Верешко неволей остановился:
– Вечера доброго, дяденька Гиря.
– Не открылось ли, что за кудесник лепоту изобрёл?
– Разное гадают, дяденька, а наверняка никто не узнал.
– За отиком поспешаешь? Помогатый не надобен?
– Благодарствую, дяденька. Отик меру знает, сам домой идёт, я так, присматриваю…
– Ишь гордый. Ну, зови, если что.
Верешко поблагодарил, побежал дальше, прикрывая колпачком горящие уши. Вот они, шабры. Чуть беда – примчатся на помощь. Как тот раз, когда Верешка взяли опознавать кровавый суконник. За такими не пропадёшь… но и чирья от тычущих перстов не укроешь.
Дорога была скорбно-привычная – в «Зелёный пыж». Если повезёт, Малюта станет ругаться, тяжёлой рукой отвесит сыну затрещину… но всё же и вправду приковыляет домой своими ногами. Если не повезёт… Сколько раз Верешку доводилось, надсаживая хребет, под хохот пьянчуг утаскивать отца на себе. Вести бесчувственного заулками, тропками, чтоб не видели уличане.
Самый короткий путь до «Пыжа» был Диким Кутом, но туда, в дебри, днём-то дурных не было соваться. Прежде там был хлопотливый птичий мирок, оставленный праведными для услаждения глаз, для соколиной красносмотрительной травли. Ныне в плавнях, ставших почти непролазными, ютились камышнички. Эти, пожалуй, убить не убьют – всё же напрямую через кровь в Шегардае редко переступали, – но вот честной хабарик, их с отиком сегодняшний ужин, отнимут наверняка. А то ещё и разденут: не сирота, новый справишь! – а нам не нагими ходить стать…
…Тонкий, горестный плач за углом перво-наперво внушил мысль о ловушке. Сунул воробышек нос, тут весь и пропал! «Кто такое подстроит, сам пусть выручки не дождётся, а со мной Матерь, право карающая…»
Он сразу узнал женщину, бессильно поникшую под забором. Все шегардайцы друг друга навскидку знают в лицо. И гордых первонасельников, и вороватую голытьбу, и частых гостей… ну и непуток, как же без них. Эту Верешко с утра видел в «Баране». Озарка хвалила её за помощь, оставляла пожить, звала в хожалки к роженице и дитяти, уже прозванному Подосиновичком… Зачем непокрытые косы вынесла в зады Гнилого берега, под хмурые стены собачников да лабазов? По темноте, по безлюдью? А дочь с собой на что привела?..
Девочка плакала взахлёб, обхватывала дуру-мамку под мышки, силилась приподнять:
– Вставай, мама… вставай…
– Сейчас, дитятко, – трудно дыша, хрипела непутка. – Погоди…
А сама, похоже, глаз открыть как следует не могла.
Верешко отвёл руки девочки, подсунул свои. Были