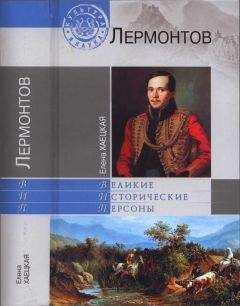Вдруг Сефлунс остановился и произнес загробным голосом:
— А вот сейчас у меня дергается правое веко.
— К сытной еде, — тут же объявил Фуфлунс, мгновенно забыв о Ксенофонте.
Боги выжидательно уставились на Анну-Стину. Девушка вздохнула — она уже начинала дремать.
— Может быть, у тебя что-нибудь другое дергается? — предположила она.
— Здесь вам никакая еда не светит. Был кусок хлеба один на всех, но его умял ваш драгоценный Ларс Разенна.
И демонстративно отвернулась.
Боги призадумались. Анна-Стина расслышала отчетливый шепот Фуфлунса:
— Сейчас сниму к черту повязки и запихаю пули обратно в раны.
— Только попробуй, — угрожающе сказала Анна-Стина. — Разенна все узнает. Завтра же.
Боги обменялись тоскливыми взглядами и засобирались прочь. Сефлунс засунул коробки с травами себе под плащ.
— Ну, извини, — сказал он.
Анна-Стина не шевельнулась.
Когда боги исчезли в темноте улицы, она спрыгнула на пол и закрыла дверь на задвижку. Потом, бесшумно ступая босыми ногами, подошла к Синяке. Он был в сознании и не спал.
— Тебе лучше? — спросила она тихонько. Он ответил утвердительно, прикрыв глаза.
Из комнаты в гостиную осторожно выбрался Ингольв. Разбуженный голосами и стуком захлопнувшейся двери, он хмуро прищурился на тусклую керосиновую лампу.
— Кто здесь был?
Анна-Стина слегка усмехнулась.
— Представь себе, Разенна действительно прислал медиков. Два смешных чудака. Нагрубили, натоптали на ковре…
Ингольв посмотрел на грязные следы, оставленные посланцами Ларса, потом тяжело сел на скрипнувший стул.
— Мама Стина, — сказал он, — дай что-нибудь пожевать.
— Ничего нет. Немного сахара осталось.
— Черт, — сказал Ингольв и замолчал.
Анна-Стина босиком стояла перед ним, глядя на взъерошенные, еще влажные после мытья волосы брата, а он сидел, опустив голову, и не двигался. Анна-Стина ждала. Тогда брат посмотрел в ее усталое лицо и попросил неласково:
— Хоть кипятка дай.
Синяка снова открыл глаза и увидел, как Анна-Стина расставляет на скатерти чашки. Стол в гостиной был круглый, тяжелый, на одной массивной ноге. Пестрая шелковая скатерть с желтыми кистями свисала почти до пола. У одной чашки была маленькая выщербинка, и битый фарфор потрескивал под кипятком.
Анна-Стина сказала, все еще думая о Ларсе:
— Он просто чародей.
Ингольв фыркнул.
— Сожрал весь хлеб в доме. Завтра придется идти мародерствовать.
— Тебе и так пришлось бы это делать.
— Пришлось бы, — согласился брат, — но на сытый желудок.
Анна-Стина почувствовала на себе пристальный взгляд и повернулась в сторону дивана. В тусклом свете лампы она увидела смуглое лицо с горящими синими глазами. И эти огромные глаза смотрели на Анну-Стину с непонятной тревогой.
Темные губы юноши шевельнулись. Он закашлялся, вытер рот ладонью и хрипло спросил:
— Кто… чародей?
Он выглядел испуганным. Брат и сестра молча переглянулись и встали из-за стола. Анна-Стина прихватила с собой лампу и поставила ее на пол возле дивана. Раненый снова прикрыл лицо локтем.
Ингольв подсел на диван, сильно взял Синяку за руку и обратил к свету тыльную сторону руки. Чуть пониже локтя был выжжен знак: сова на колесе. Синяка замер, стараясь дышать как можно тише.
— Он из приюта Витинга, — сказал Вальхейм и с отвращением оттолкнул от себя бессильную синякину руку.
В вольном Ахене Витинг был весьма известной персоной. Он содержал приют для сирот и подкидышей и считался одним из главных городских филантропов, поскольку воспитывал преимущественно детей хворых, увечных или поврежденных рассудком — тех, от кого отказывались городские приюты, находившиеся в ведении магистрата. Будучи находчивым и остроумным предпринимателем, Витинг до семи лет кормил сирот бесплатно, а затем начинал учить их сапожному ремеслу и приставлял к делу. Сапоги.
Анна-Стина оглядела притихшего паренька еще раз, но никаких, по крайней мере, внешних признаков неполноценности не обнаружила. Разве что смуглая, почти черная кожа и невероятная синева глаз… И почему его так испугало слово «чародей»? Наверное, с головой у него не все в порядке, решила Анна-Стина.
— Как он вообще попал в армию? — спросила она брата.
Вальхейм беззвучно выругался, потом сказал вслух:
— Сволочь.
Анна-Стина подскочила, и тогда брат, опомнившись, слегка покраснел и провел пальцем по ее щеке.
— Прости, мама Стина. Третьего дня я видел Витинга у нас в штабе. Он пил пиво с офицерами и громко хвастался, что распродал часть имущества. Мерзавец… — Ингольв посмотрел на Синяку, который лежал неподвижно, полуприкрыв глаза. — Я даже не подозревал, что Витинг поставляет армии не только сапоги. Когда меня посылали в форт, дали кого попало.
Он замолчал. Во всем доме, во всем городе царила тишина. В темноте притаились армии, но форт уже лежал в руинах, и Вальхейм неожиданно понял, что все время думает только об этом.
Анна-Стина всхлипнула. Ингольв положил руку ей на плечо, и она склонилась щекой к его крепкой широкой ладони.
— Как ты думаешь, — спросила она, — город сдадут?
Он уверенно кивнул и добавил вполголоса:
— Умнее было бы сдать его без боя.
— Но ведь мы с тобой никуда отсюда не уйдем?
Он улыбнулся.
— Конечно, нет, Анна. Нам с тобой некуда отсюда идти.
Вчера форт замолчал, и эта часть города, казалось, была совершенно забыта войной. Волны бились о стены, возведенные еще при Карле Незабвенном. Вода уже смыла следы недавнего кровопролития, и только лохмотья белого офицерского плаща свисали с разрушенной стены, как флаг поражения.
Забытые яхты метались у пирса городского яхт-клуба, словно оставленные хозяевами кони. Ветер мчался вверх по Первой Морской улице, выводящей к башне Датского замка. Синее осеннее небо без единого облака стояло над заливом, не отражаясь в его бурных серых водах. Полосатые сине-красно-белые паруса завоевательского флота были видны справа от старого форта.
Ахенская армия отступала через город, который было решено сдать без боя. Вместе с солдатами уходили и многие горожане — члены городского магистрата и торговцы, содержатели постоялых дворов и ремесленники; уносили инструменты и товар; уводили детей. Офицеры, все еще великолепные в своих блестящих кирасах, с белыми и алыми султанами на шлемах, подхватывали в седла красивых женщин, одетых в шелк и бархат.
Армия продвигалась медленно. На каждой улице к гигантскому шествию присоединялись все новые люди. С грохотом катили по булыжнику пушки. Сверкающая громовая медь не сумела отстоять город, и теперь тяжелые колеса разбивали мостовую.