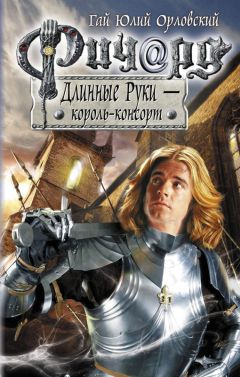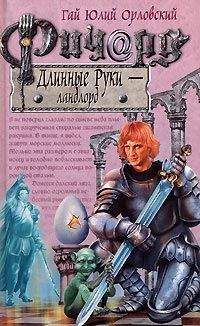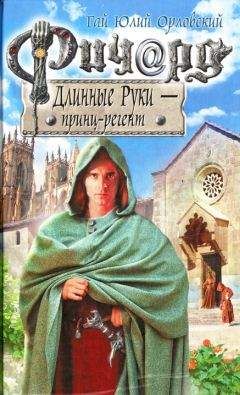Отец Муассак не отводил взгляда погрустневших глаз от бывшего зеркала, где все уже не потрескивает, а тихо-тихо шуршит, опускаясь к полу и заполняя пустоты.
Вид у отца Форенберга таков, что рушится его жизнь, явно он больше всех работал с этим зеркалом, и сейчас у него появится масса свободного времени.
Я встал рядом и сказал с подчеркнутым сочувствием:
— Приношу самые теплые соболезнования. А как вы относитесь к зеркалам, что позволяют перемещаться?
Он скосил глаза в мою сторону.
— Ни одно зеркало не запрещает…
— Простите, — уточнил я, — вы же любите точные научные формулировки, типа сколько ангелов на острие одной игры! Я имею в виду, позволяют перемещаться через них… на большие расстояния? Р-р-раз — и в другом месте!
Он посмотрел уже внимательнее.
— Вы сами такие видели? Или только слухи?
— Видел, — ответил я скромно, — и пользовался.
Он вздрогнул, повернул ко мне голову. Глаза округлились, он всмотрелся внимательно, я мило улыбнулся в ответ.
— И не только такие, отец Форенберг. А есть еще…
— Говорите, — потребовал он шепотом. — Нет, пойдемте отсюда. Здесь уже ничем не помочь.
Его келья намного просторнее моей, однако роскоши нет, только стол, несколько простых кресел и книжные шкафы под самый потолок, но книг там уже почти нет.
Он молча указал на крайнее кресло, я сел, засмотрелся, как рядом на полке в изящной подставке поблескивают выпуклыми стеклянными формами песчаные часы. Сперва принял за клепсидру, привык видеть в таких постоянно переливающуюся воду, намного реже песок, но здесь из верхней перевернутой колбы струится нечто тончайшее, напоминающее прямой луч серого лазера, что не вода и не песок.
В нижней растет аккуратная горка, а на стекле четкие отметины, означающие, как я понял, часы, четвертушки и даже минуты.
— Красиво, — сказал я подхалимски, — просто замечательно! Это такой металл?.. Или особого рода истолченный песок с некими примесями?
Он придвинул кресло поудобнее, чтобы хорошо видеть мое лицо в пламени свечи, ответил рассеянно:
— Нет… это Сомерхальдер.
— Сомерхальдер? — переспросил я. — Это такой минерал?
Он покачал головой, не отрывая внимательного взгляда от книги.
— Нет-ет, Джон Сомерхальдер. Был такой великий колдун.
— А-а-а, — сказал я понимающе. — Его работа? Он создал?
Он посмотрел на меня, как на дурака.
— При чем тут создал? Я убил его и сжег, а это его пепел. Намного удобнее, чем лучший просеянный мастерами песок. И в то же время напоминание, враг не дремлет… Сомерхальдер на свете не один.
Он ласково улыбнулся мне, добрый и милый ревнитель старых традиций в одежде, это же так важно, поинтересовался:
— Так что насчет зеркал, что вы где-то видели?
Я рассказал почти без утайки о двух зеркалах. В одном из которых можно наблюдать за непонятно где расположенной комнатой, полной волшебных сокровищ, что совсем не волшебные, где время от времени появляется некий маг, и о втором, где видишь дивный мир, в котором так хотелось бы жить…
Рассказал и о зеркалах в покоях леди Элинор, теперь герцогини Элинор, в одном можно видеть себя очень измененным, старым или в другой одежде и в непонятно каком месте, а другое показывает странный багровый мир, тоже полный диковинных вещей…
Он слушал очень внимательно, глаза то загорались восторгом, то мрачнели. Когда я умолк, он ухватил кубок с вином и осушил до дна, рука заметно тряслась.
— Сколько еще диковин в мире, — сказал он жарко, — эх, если бы…
— Что, — спросил я. — Что мешает?
— Нам нельзя покидать Храм, — ответил он потускневшим голосом.
— Почему?
Он вздохнул.
— Просто не можем. Не спрашивай, это долго объяснять, да и сам запутаюсь.
— Жаль, — сказал я, — мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы своими глазами вот так, как меня. Вдруг да отыщете ключик.
Он скупо усмехнулся.
— К вам?
— Я человек бесхитростный, — заверил я. — У меня сердце на рукаве. Открыт всему миру, а также новым идеям, взглядам, вызовам времени, ибо толерантен и незашорен… А вы?
Он отвел взгляд.
— Вы человек свободный, брат паладин.
— Разве?
— Свободнее нас, — уточнил он, — монахов. Вступая в монастырь, мы отрекаемся от светской жизни и принимаем Устав, а также обязуемся следовать Правилам.
— Ваш Устав не позволяет? Или что?
— Все вместе, — ответил он уклончиво. — Хотя, конечно, вы меня не просто заинтересовали… а очень заинтересовали. Я буду думать, как найти решение.
Я понял по его лицу и понижению голоса, что разговор окончен, поднялся и скромно поклонился.
— Отец Форенберг…
— Брат паладин, — ответил он.
Я вышел в коридор, мелькнула слабая мысль, что остатки зеркала за это время уже рассыпались в мельчайшую пыль, а та и вовсе растворилась, так что никакие цистерианцы в самом деле ничего бы не сделали, отец Форенберг прав, но все равно я молодец, поймал на крючок. И если все пойдет правильно, то он землю будет рыть, но какой-то способ да выкопает…
Вдали мелькнула высокая и сутулая фигура Жильберта. Я обрадовался, крикнул не по-монастырски громко:
— Жильберт!.. Брат Жильберт!
Он оглянулся, лицо его болезненно дернулось, будто мой рев больно ударил по ушам, поспешил ко мне, часто-часто перебирая задними конечностями, потому что бегать неприлично, даже запыхался.
— Брат паладин, счастлив вас видеть!
— Ну да, — сказал я саркастически, — так рад, что даже не пришел повидаться.
— Дела, — сказал он умоляюще. — Я помогаю в меру сил опускать самые ценные книги в пещеры…
— Коллаборационист, — сказал я веско. — Ладно-ладно, не оправдывайся. Проводи меня к отцу Велезариусу.
Он уставился на меня добрыми и чистыми глазами ребенка, спросил опасливо:
— А он… разрешил? Человек он очень занятой.
— Отец настоятель разрешил, — оборвал я. — А хозяин лучше знает, что кобыле делает. Пойдем-пойдем! Твоя трусливая деятельность подождет, это важнее.
Он воскликнул послушно:
— Как скажете, брат паладин! В случае чего, сошлюсь на вас.
— Давай, — согласился я, — с меня как с гуся вода. Ого, еще выше?
— Отец Велезариус, — ответил он застенчиво, — на третьем этаже.
На третьем, куда я еще не поднимался, торжественная тишина, высокие своды, узкий коридор с мраморным полом, а вдали в стене сказочно прекрасные цветные витражи, не верю, что простое стекло, не иначе как горный хрусталь…
Я сам чувствовал, что начинаю ступать с неким благоговением, Жильберт вообще идет, как тихая мышка, глазки опустил долу, недостоин, значит, созерцания, а то залапает взглядом, пятна останутся.