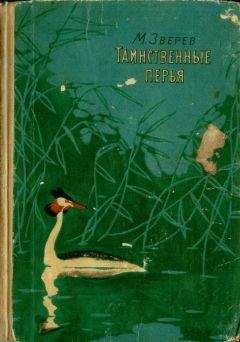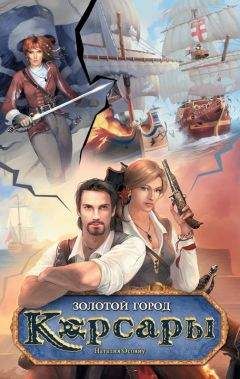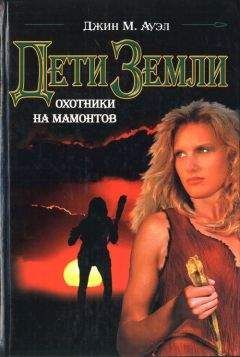Рынки появлялись как грибы после дождя, заполняя тупики и цитадели ароматами шафрана и жареного мяса. Торговцы приходили, чтобы продавать кукол и ларцы, лоснящихся гнедых коней и любовные обереги, и оставались, чтобы созерцать божественность, свойственную обмену золота, в великолепных Башнях, составлявших вместе множество сердец Города.
Башни расположены согласно узору «чанъэ» – идеальной оборонительной позиции фигур ло-шэнь. На внешнем краю высится Башня Солнца-и-Луны, чья крыша увенчана огромным алмазом и топазом, слитыми в немыслимой печи. Превратившись в единый камень, они отражают небесный свет на Город, превращая его в водопад. Там же, на краю, стоит Башня Отцеубийц, яркая от крови, что сочится между её полированных камней тонким, но уверенным потоком и собирается в мерцающем багрянцем рву у подножия, и Башня Льда-и-Железа, чей витой металлический шпиль касается облаков. Во втором круге стоят Коралловая Башня – её щербатые тёмно-розовые стены покрыты анемонами, и старательные послушники постоянно их увлажняют; Башня Гермафродитов, занавешенная покровами и исписанная священными идеограммами, нанесёнными серебряными чернилами на золотые стены; Хризантемовая Башня, яркий камень, украшенный шестнадцатилепестковыми хризантемами, бросающими золотые и алые отблески в лучах полуденного солнца; и Башня Святой Сигриды, ощетинившаяся корабельными носами, штурвалами и мачтами. Во внутреннем круге стоят Башня Соловья, в чьих стенах свистит и нежно поёт, как соловей, ветер, и Башня Девяти стеблей тысячелистника, стены которой представляют собой предсказательную машину, расписанную тысячью красок; игру цветов в лучах солнца и в тени по сей день толкуют тамошние обитатели[12]. Ещё есть Башни Живых и Мёртвых, когда-то стоявшие гордо и прямо: одна – со стенами из перьев ястреба и сокола, с крышей из пучков шерсти и дверьми из змеиной кожи, другая – сплошной чёрный лабиринт из катакомб и щелей. Однако с течением времени они сильно накренились друг к другу и теперь почти соприкасаются. Между их верхними этажами наведён мостик из шелка и эбенового дерева; посвящённые спокойно переходят по нему из одной башни в другую.
Наконец, в центре Аль-а-Нура воздвигли изящную, простую башню из камфорного дерева и корней розовых деревьев, скрепленных серебряными гвоздями, чьи шляпки созвездиями блестели на полированных стенах. Кровля её была из ивовых веток, окна занавешивали мягкие оленьи шкуры – это Башня Папессы, святейшее место в святом Граде.
Ибо Аль-а-Нур – дом двенадцати религий, коими руководит Папесса, чья мудрость вела нас с ранних времён. Каждая Башня – самодостаточная духовная сфера, в каждой свои службы, посты и писания. Божественное познают мириадами способов, но признание Папессы обеспечивает мир. Халифат, управляющий окрестными землями, даёт Аль-а-Нуру полный суверенитет – так было на протяжении веков процветания и спокойствия. С разных сторон света являются юноши и девушки, желающие провести свою жизнь в размышлениях, и там, под светом Солнца-и-Луны, они находят близкий им путь. Аль-а-Нур – резной ларец, в котором хранится мудрость всего мира и знание, потерянное для тех, кому нет хода в наши веретенообразные Башни. Это рай для жаждущих и мудрых.
Конечно, наш мир иногда прерывался. После смерти Гифран Милостивой Халифат выдвинул на папство чужачку Ранхильду Первую и разместил её в Шадукиаме, городе на востоке, пытаясь притянуть к себе богатство Аль-а-Нура и перенести религиозную власть, которая всегда пребывала в Двенадцати Башнях, в этот отступнический город, где – какое совпадение! – находилась и сокровищница Халифа. Фальшивая папесса, называемая также Чёрной, представляла собой великую проблему для Башен, потому что выбирать новую очень сложно – для этого требуется согласие всех сект города, а также папского двора. Гифран умерла внезапно, и наследницу ещё не избрали.
Кандидат объявился в Башне Гермафродитов, и в то время как Чёрная папесса всё больше укреплялась в Шадукиаме и умах людей, Аль-а-Нур был заполнен хаосом, как зимняя буря – молниями. Все соглашались с тем, что пресвитер Цвети обладает познаниями и народной любовью, а также чистотой души, отраженной в каждом произнесённом слове и грациозном жесте. Однако до назначения дело не доходило.
Даже тебе должно быть ясно, дитя моё, что адепты Башни Гермафродитов скрывают свой истинный пол, не желая выступать в качестве мужчин или женщин. В этом нет ничего постыдного, такова их природа и природа космоса, как они его понимают. Хотя каждый родился дочерью или сыном, они носят болезненно тугие покровы, прячут волосы и никому не открывают тайну своего пола. Для них самая божественная из всех вещей – слияние противоположностей, света и тьмы, священного и богохульного, мужского и женского. Они верят, что благословенны соблюдающие равновесие, замершие, будто человечий маятник между двумя состояниями, способные уникальным образом воспринимать мир одновременно как мужчины и женщины, как не те и не другие. Но папство основывается на матриархате, и так было всегда. Поэтому кое-кому Цвети казался – или казалась – кощунством, загрязняющим Святой престол. Если пресвитер был мужчиной, немыслимо требовать для него престол, а если женщиной, ей следовало открыть это всем и соблюсти закон Города. Повсюду шли ожесточённые споры, они распространялись со скоростью лесного пожара.
Разумеется, Башня Цвети, которой ещё ни разу не выпадала честь занять высочайший пост, думала, что отказ принять столь блистательного кандидата будет наглым оскорблением их ордена. Многие – например Башня Отцеубийц, по сути исключительно мужская секта, и Драги Селести из Башни Льда-и-Железа, беззаветно преданные традициям Города священники-воины, которые прячут лица под одинаковыми масками из слоновой кости в виде змеиных морд, – не поддержали бы никаких изменений в законах престолонаследия: отчасти из страха, что в итоге изменятся их собственные внутренние обычаи. Никто не осмеливался создать прецедент.
Цвети любил/а Аль-а-Нур больше всего на свете и, опасаясь, что в поднявшемся хаосе папство будет уничтожено руками Ранхильды и Халифата ещё до того, как примут окончательное решение, отозвал/а свою кандидатуру. Иных, достойных в той же степени, что и он/а, претендентов не нашлось – никто не мог с той же лёгкостью медитировать, никого не любили так сильно во всех Башнях, как Цвети, чей голос был подобен звуку большого колокола. Все соглашались, что в такое страшное время только Цвети по силам вести войска на Шадукиам. Препятствием были форма бёдер и густота ресниц, а не святость пресвитера и не искренность веры. Город оказался в тупике, а Ранхильда в это время укрепляла свой авторитет на востоке и раздувалась, точно сытая паучиха.