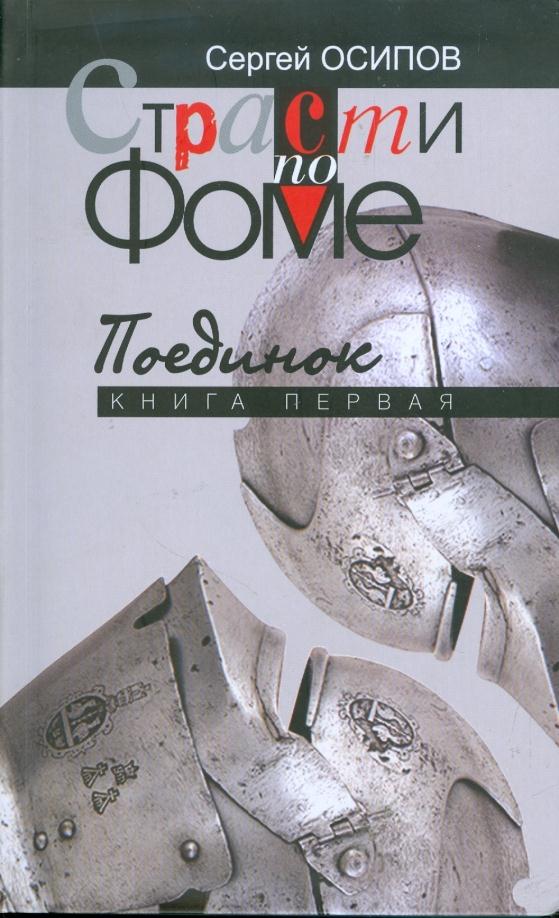её, как говорил тот же Фома. Половину это как, удивлялся Акра, тогда еще не привыкший к его манере изъяснения.
— А вот как прервешься, так и половина. Кто докажет обратное?
— Но сколько от бесконечности не отнимай, все равно остается бесконечность!
— Так прерываешься-то ты, а не бесконечность, ты прервался на половине, а она как была, так и осталась. Бесконечность это пропасть, середина которой всегда в тебе.
Акра поразился. Действительно, мир настолько огромен, что где бы ты не находился, ты все равно находишься в центре бесконечности, в ее пропасти, в самом эпицентре бушующего вокруг тебя урагана вселенной.
Вот почему в каждом субъекте сознания есть ощущение, что он — центр мира, его пуп, вот на чем зиждется его неистребимый эгоцентризм — аз есмь! И все вертится вокруг меня!.. Но отсюда же и необъяснимый животный страх перед этим самым миром — пропастью — как бы не пропасть!
Прошла информация о Хруппе. Почему он не хочет уходить, ведь Скарт мертв? Что-то ищет?..
Доктор снова бросился в погоню. Теперь, когда треугольник Хрупп — Скарт — король распался, сизарь становился более уязвим в поле Кароссы…
Но почему Фома не остался за Чертой, вернулся он к прежним мыслям. Что-то мешает? Смешно, что может мешать сайтеру, который от всего освободился? Не хочет?.. Это невозможно, при его любви к удовольствиям, игнорировать вечное блаженство! Тогда что? Кто может сказать? Сати? Да, достань сейчас Сати!.. Кальвин?.. Не скажет, даже если знает… Сиятельные? Но как к ним попасть, если неизвестно даже, кто они? Никто этого не знает, можно только догадываться. Ави? Геро? Моноро?.. Вряд ли кто скажет, омерта!
Фома же никак не мог остановиться, улетая и возвращаясь, словно кто-то там, наверху, в горней монтажной, клеил авангардное кино-буриме. Он был у Мамаши, у Папаши и даже у чертовой Бабушки, словно постигая потусторонний бестиарий на практике, и везде всё та же отвратительная смесь красоты и уродства и все те же четыре бетховенские ноты: па-ба-ба-баам!.. Здешнего имиджмейкера можно было увольнять, он лепил халтуру направо и налево, уповая на одноразовость посещения здешних мест, то есть не рассчитывая, что кто-то заглянет сюда дважды, трижды…
Поэтому не мудрено, что Папаша был страшно удивлен несерьезностью Фомы, заявившего протест по поводу однообразия.
— Приехали, жмурик, о чем ты? Ты разве не знаешь, что ты умер?..
Фома прислушался к пустоте в себе.
Пустота заворожено молчала, словно потрясенная услышанным не менее самого Фомы.
«Я умер?» — спросил он себя, на всякий случай. «Еще чего! — донеслось до него из самой глубины пустоты. — Я ж бессмертна, ты что забыл?! Ну-ка, свинчиваем отсюда, пока живы!..»
И Фома сразу поверил — душа не врет. Ему-то было хоть бы что, а вот она, при упоминании о смерти, тряслась так, что его колотило. Буквально на секунду глаза прикрыл, а уж сразу — покойник! Беспредел! Моргнуть нельзя! У них же тоже, наверное, есть дети? А если они проморгаться захотят?
Папаша Большой Каюк слушал его открыв рот: вроде знакомые слова, но что говорит этот рыжий? Какие глаза, какие дети? У кого?.. Что вообще происходит на том свете? Нет, пусть Мамаша сама разбирается со всем этим!
— Нет! — закричал Фома, но было поздно.
Откуда-то вылетела огромная лопата и преобразовала действительность до колокольного звона в голове. Его опять хоронили и опять не уследили за маркизом. Жизнь у него теперь была, как у вампира. Сегодня закопали, завтра откопали, днем монеты в рот, ночью какие-то люди, больше похожие на покойников, чем сам Фома, ползали у него во рту грязными заскорузлыми пальцами, раздирая щеки. Казначеи, при упоминании о Фоме, бледнели и уходили в отставку. Стоял только один вопрос: что делать? — потому что, кто виноват было предельно ясно.
Какой-то умник, вызванный из тундры, посоветовал женить графа. Там, среди вечной мерзлоты и трудностей с разложением трупов, считалось, что если покойник не тлеет, то его надо женить или присвоить какой-нибудь гражданский або воинский чин. У них, мол, в тундре все так делают и никаких «трундостей» не испытывают.
Послушали и шамана, но чин покойнику придумать не могли, только в страшном сне может присниться, что странный рыцарь твой начальник. Нет! Лучше женить! Женить же графа можно было лишь в том случае, если имелась особь женского пола, согласная связать свою жизнь с покойником, как ни душераздирающе это звучит.
Как они там живут в тундре?! — ахали старые мамзели, не выдерживая напора регресса.
Но с этим, то есть с невестами, было как ни странно легче, настолько, что если бы не Меркин, Мэя, несмотря на официальное предложение графа, так никогда и не вышла бы замуж за него, пусть и посмертно. От желающих связать свою судьбу с умершим сюзереном Иеломойи не было отбоя — завидный покойничек был по наследию, хотя и знался черте с кем!..
Но все эти мероприятия: женитьба, повышение в чине, — служили только одному — окунуть усопшего, так сказать, в мирское и тогда, глядишь, его быстро подобьет гнильцой, в его же, кстати, интересах. Разъяренные жарой могильщики грозились сами засунуть ему червей в рот и заткнуть коровяком. Неизвестно, что по этому поводу думал простой народ, дерясь по ночам на могиле за каждый оставленный кусок и монету, но двор, утомленный поминками сильно на это надеялся.
На очередных поминках (Фома был все еще как живой, чуть-чуть землицы за ушами и все — ни черта ему не делалось!) было объявлено и о помолвке, и вся Каросса гуляла нехорошо, со свистом и воем, и с помутнением рассудка вокруг глаз. Одни, допившись, дико праздновали помолвку, другие — скорбно хоронили, так как считалось, что чем сильнее веселье свадьбы и горше поминки, тем быстрее завоняется труп. Вопрос уже был мировоззренческий: кто кого? Мы его или он нас? Мы — на свадьбе или он — на поминках?!
— Проверяем! — орали монахи, отплясывая. — Чтоб, значит, без ошибки!..
А после служили молебен. Не зря говорится: один хлеб