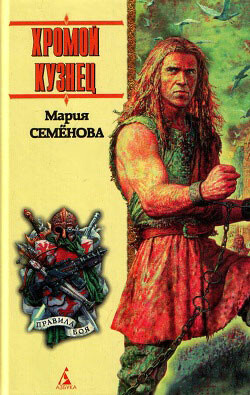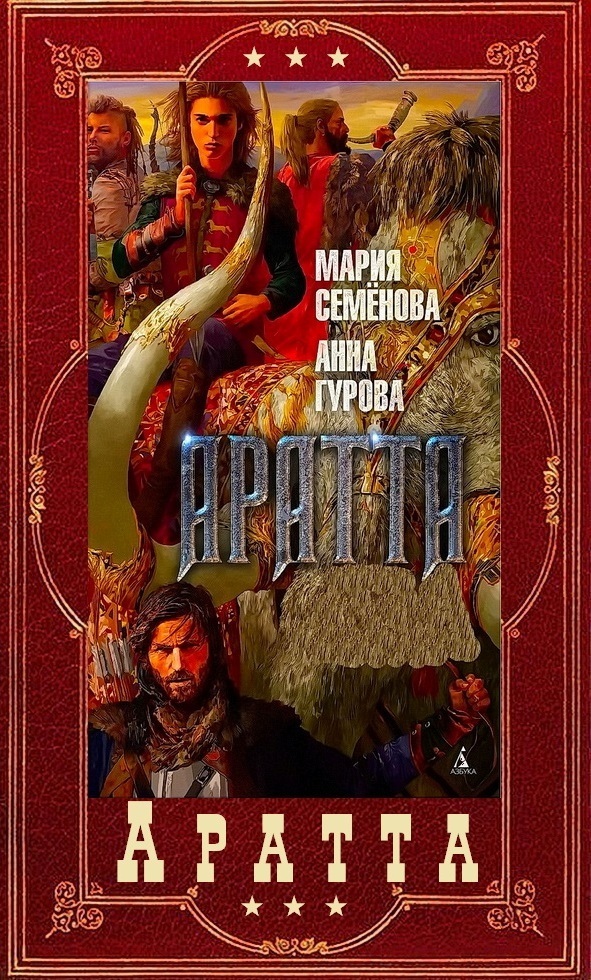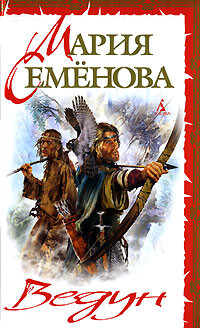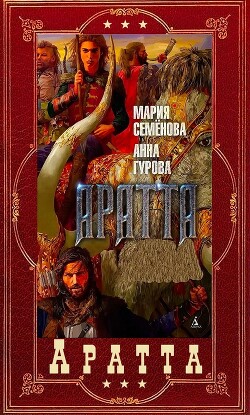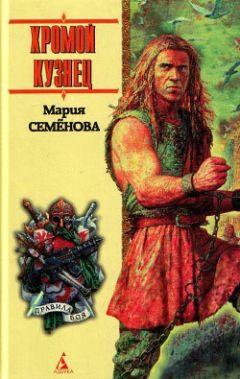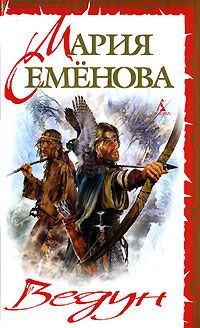Кий заботливо водил жену по бане туда и сюда, к порогу и назад, посолонь, поднимал на полок, поворачивал с левого боку на правый. Успокаивал, держал крепко за руку, пока мучили схватки. И вот наконец раздался младенческий ликующий крик, и бабка скормила Кию ложку круто посоленной, да ещё наперченной каши – слёзы из глаз:
– Кушай, отец-молодец.
Правду молвить, та каша не показалась кузнецу особенно горькой – масляный блин на поминках кажется горше. Любимая жена улыбалась ему сквозь усталость и слёзы, и дитя шевелилось у груди. Как весь мир когда-то, впервые ощутивший рядом свою Великую Мать. И не хотелось думать, что дитятко входит под небеса, в которых умерло Солнце и не стало Грозы, вступает на Землю, с которой навсегда пропала Весна.
Сына повили на рукояти отцовского молота, дочку – на веретене, чтобы росли не бездельниками. Спеленали сынка отцовской рубахой, доченьку – материнской. Обоих Кий торжественно показал изваяниям Богов, глядевшим из святого угла, печному Огню, показал растущему Месяцу, приложил к очищенной от снега Земле. Потом снёс к реке и обрызгал водою из полыньи – всё это затем, чтобы причастить их Вселенной, чтобы добрые очи увидели новых Людей, признали новые души. Все обряды Кий совершил сам: последние Перуновы жрецы уже давно не спускались с горы Глядень, где когда-то было святилище. А звать волхвов в вывороченных шубах кузнец не хотел.
Сошлись родня и соседи, принесли роженице угощение на зубок, чтобы хорошо ела и поправлялась, – пирожки, блинчики, всякие домашние лакомства. Потом устроили пир, священную братчину, празднуя продолжение рода.
Сына Кий назвал Светозором, доченьку – Зорей. Следовало бы назвать по деду и бабке, но их имена уже носили дети старшего брата, вот и подумалось кузнецу – пусть хоть в именах будут с ними спутники дня, которых эти дети, пожалуй, узнают лишь по рассказам…
– А может, всё же увидят? – спросила молодая кузнечиха.
– Может быть, – сказал Кий.
Эти имена звучали лишь дома, на улице детей называли прозвищами, кличками-оберегами. Незачем стороннему человеку подслушивать истинные имена, вдруг попадётся недобрый, ещё порчей испортит. Вот почему до сего дня Люди редко говорят – я такой-то, чаще иначе: меня зовут…
Как от прадедов заповедано, до семи лет малышам не стригли волос, и бегали они по дому в одних рубашонках, сестрица – без девичьей поневы, братец – без портов, не знаючи не разберёшь, где дочка, где сын. А рубашонки им шили из старых родительских, чтобы родительская одежда оберегала дитя. Вырастут, наберутся силёнок, возмогут сами за себя постоять – тогда уж и станут носить сшитое из новины.
Но вот Кий в первый раз посадил сынка на коня, приобщая к мужскому занятию, и тогда же обрезал ему отросшие русые кудри:
– Постригайся, Светозор Киевич, с ребячьего стану да в мужскую славу!
Начал сын помогать ему в ремесле, покамест наполовину играя. Присматривался, делал что мог. Потом Кий привёл Светозора в мужской дом своего племени, туда, где его самого научили когда-то чтить светлых Богов. А теперь уже сын внимательно слушал, как новорожденный мир покоился на коленях Великой Матери Живы, о славных делах троих могучих Сварожичей – Даждьбога-Солнца, Перуна, Огня… И о Змее, конечно. Змею Волосу молились теперь все, а о Грозе и Солнце если припоминали, то уже наполовину не веря, особенно молодёжь: было, не было ли, чего только старые старцы не наплетут… Кое-кто и посмеивался над любопытным сынишкой кузнеца, а тот всё приставал к отцу:
– Какой он был, Даждьбог? А Бог Грозы? Расскажи про Сварожичей!
Кий уводил его в кузницу и рассказывал там, под лязг молота и шипение искр. Многим молившимся Волосу нынче не нравилось, когда поминали сгинувших сыновей Неба.
– Не слушай их, – говорил сыну кузнец. – Они сами стали, как Змей. Только и чтут прошлого, что в свою куцую память легло!
Так мужал Киевич и наконец принял Посвящение: в мужском доме умер Светозор-мальчик, родился совсем новый Светозор – юный мужчина, признанный усопшими предками, в самом деле принятый в род. Вышел под ясный Месяц одетый по-мужски, в штанах и с оружием, кованным в отеческой кузне, со знаками рода, вколотыми в живое тело острой иглой, намазанной жгучими зельями! Видный парень был, в отцовскую стать, в материнскую красу – чего доброго, скоро на девок-славниц станет поглядывать, невесту найдёт, дедом сделает Кия…
Дочка, Зоренька, тоже даром времени не теряла. В тот год, когда братец посажен был на коня, выпряла она из очёсов шерсти свою самую первую нить. Половину той пряжи заботливая кузнечиха немедля припрятала – ещё сгодится дитятко опоясать, когда повзрослеет и заневестится, дождётся сватов. Другую половину – сожгла и велела дочке вдохнуть дым, а золу выпить с водицей под приговор:
– Будешь пряхой хорошей!
Стала Зоря ходить в женский дом, на девичьи посиделки, цепко запоминать старинные песни, перенимать рукоделие и стряпню. Занялась, как все девки, ткать и вышивать себе приданое – замуж выйдет, там некогда будет. За прялкой, сказывали, её мало кто обгонял. И вот наконец совсем повзрослела, стала из девочки девушкой. Опять собралась родня, взобралась Зоря на лавку и стала похаживать вдоль стены туда и сюда, а мать пошла следом, развёртывая шерстяную клетчатую понёву:
– Вскочи, дитятко!
– Хочу вскочу, не хочу не вскочу, – отвечала Зоря гордо, как заповедано. Вздевшая понёву становится славницей, невестой на выданье. Как не показать своему роду – мол, век просидела бы в родительском доме, никуда своей волюшкой не пойду!
Но вот обернули поверх вышитой рубахи понёву, завязали тканый пёстренький поясок… Выросла дочка!
Заброшенное святилище
Вот уже тридцать лет и три года не видели Люди солнечного восхода, тридцать лет и три года не наступала весна. Люди позабыли вкус хлеба, забыли, как прикасается к телу льняная и конопляная ткань. Пряли шерсть, выделывали звериные шкуры, кормились охотой. Медведи просыпались в берлогах и бродили по заметенным снегом лесам, тощие, страшные, свирепые. Иногда они ловили девок и баб, но не ели – утаскивали в берлогу жить. Рождались сыновья, не то Люди, не то медведи. Если превозмогало звериное, делались оборотнями. Если людское – выводили мать обратно к родне, сами тешились молодечеством. Прозывали их кого Медвежьи Ушки, кого просто Медведкович, и по сей день про них рассказов не счесть.
Однажды Зоря и Светозор взяли луки и вместе вышли со двора на лыжах. Брат и сестра с детства привыкли полесовничать вместе, добывать боровую птицу и зверя. Не боялись ночевать на морозе, уходили порою на несколько дней. Лешие давно не показывались, так что иные охотники уже и не чтили Правду лесную – зачем, коли никто не накажет? Вот и убивали больше, чем требовалось, бросали подранков, забывали повиниться перед звериными душами, изгнанными из тел, поблагодарить за добро. Жутко вымолвить – иной раз живьём шкуру спускали. И, уж конечно, не оставляли на пнях угощения лесному народу. Какое там – сами несыты! А что зверьё уходило, скудело, внукам не на кого будет охотиться – им-то какая забота!
Брат с сестрою удались не таковы. Довелось им раз вытащить из полыньи чернобурого лиса, цеплявшегося за ломкий ледяной край, ненадёжно прихвативший быстрину. Светозор и сам вымок по пояс, пока его доставал. Дети кузнеца тогда не позарились на роскошную драгоценную шубку. Разложили костёр, обогрели и высушили зверька – да и отпустили…
…Долго ли, коротко ли шли Киевичи лесом, под заиндевелыми соснами, меж непроглядных елей, утонувших в снегу. Довелось им тот раз зайти в самую крепь, в такие места, где они ещё не бывали. Пересекли замёрзшее болото, миновали холмы – и над лесными вершинами явила себя гора, круто вознёсшаяся ввысь.
– А не Глядень ли это? – сказал сестре Светозор. – Давай заберёмся!
Яркий Месяц светил между облаков, обведённых серебряными каёмками. Оказалось, гора стояла на самом морском берегу, озирая мерцающий неподвижный простор, ушедший во мглу. А в другой стороне, далеко-далеко, видны были знакомые родные дымки. Действительно – Глядень, лучше не назовёшь. Но брат и сестра, взобравшись наверх, тотчас позабыли, чего ради вязли в сугробах. На лысой макушке горы перед ними было давно позабытое, заброшенное святилище Бога Грозы. То самое, о котором рассказывал когда-то отец.